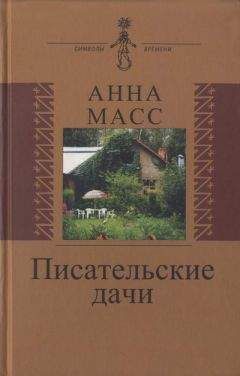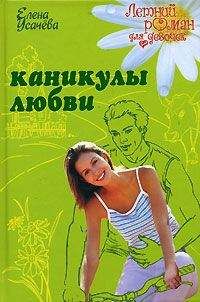10 сентября 1978 года
— Я вот зачем тебя позвала, — говорит Кипса. — Я решила сделать выставку своих картин. Здесь, на даче. А что? Будут приходить, приезжать… Пойдем, я тебе покажу!
С помощью двух палок-костылей она ковыляет в бывшую гостиную, где стоят две неубранные тахты и детская кроватка, а резной дубовый стол, за которым когда-то собирались поэты, звучали стихи, поднимались тосты за гостеприимных хозяев, запихнут в угол и завален каким-то барахлом вперемешку с рисунками и огрызками хлеба. Порывшись в этой свалке, Кипса достает альбом и радостно говорит, что задумала серию рисунков про Бабу Ягу. Кипса — детский художник-график. Она показывает мне эскизы — забавные, с юмором, какие-то праздничные, солнечные, — и я горячо их одобряю, не только потому, что они мне нравятся, но и потому, что работать в таком состоянии, да еще в этом бардаке, которым она сама себя окружила, — это в какой-то степени героизм.
— Да! Аня! У меня вчера возникла еще одна идея, я хочу с тобой посоветоваться. Я задумала поделить капитальной стенкой вот эту часть прихожей вместе с папиной комнатой, сделать отдельный вход с улицы, прорубить боковое окно фонариком и, таким образом, у Кати с Мишей и их малышей будет совершенно отдельное помещение. А? Как тебе? Главное, мне очень нравится идея прорубить окно сбоку фонариком.
— А папу куда?
— Ну, к тому времени, я надеюсь… — она выразительно вздыхает и говорит доверительно: — Когда-то же это должно кончиться?.. Я тебе честно скажу, Аня, я от него устала! Ничего не ест, дети его раздражают… Нет, я еще понимаю, когда вкладываешь силы в молодое поколение. Это — правильно, в этом есть смысл. Но тратить силы на стариков — это все равно, что стараться сохранить прошлогодний снег.
Поэт медленно сникал, потрясенный, обиженный старый ребенок. За годы, что он прожил без Зои, у него еще выходили книжки, он написал поэму «Зоя» — гимн любви подруге своей жизни.
Он обращался к ней, ушедшей:
Прости за то, что я так стар,
Так нищ, и одичал, и сгорблен,
И все же выдержал удар
И не задохся в душной скорби.
Прости за тщетное «прости»,
Оставшееся без ответа
На том пределе, в том пути,
Где нет ни воздуха, ни света.
Он еще порой загорался прежним огнем в обществе друзей и молодых женщин, но после этих вспышек еще больше слабел, и больно было смотреть, как он, шаркая, опираясь на трость, путаясь в полах халата, волочился на кухню ужинать.
Вместе с ним за стол садилась его первая жена, Наталия Николаевна, поселившаяся в доме вместе с дочерью. Она вырастила его детей, воспитала его внуков, дождалась правнуков. Жизнь ее семьи была ее жизнью. Ей просто некуда было деваться, кроме как поселиться в доме бывшего мужа.
Она жалела его. Ей хотелось хоть как-то облегчить его быт. Но он ни о чем ее не просил, а она была горда и боялась показаться навязчивой. Так они и жили, старик и старуха, расставшиеся полвека тому назад и вновь соединившиеся по прихоти судьбы. Встречались за кухонным столом, ели кашу, пили чай из засаленных кружек, а потом молча расходились.
В последнее лето своей жизни, девять лет спустя после смерти Зои, поэт вспыхнул напоследок прежним пламенем в вечер своего восьмидесятилетнего юбилея в Центральном доме литераторов, а потом почти на глазах стал день ото дня тускнеть и гаснуть, как прогоревший уголек. Весь усохший, крохотный в огромном для него махровом халате, он сидел в своей комнатушке внизу. Отвернувшись от всех, спиной к двери, он сидел целыми днями за столом, охватив пальцами голову и курил, курил, словно желая изолироваться дымом от домашнего хаоса. Тем, кто приоткрывал дверь и заглядывал в комнату, казалось, что он что-то пишет. Но он просто сидел, уставившись в окно пустыми глазами с огромными черными подглазьями. Может быть, он снова уходил в свои Версали, в свою поэзию, это было теперь единственное во всем доме, что принадлежало только ему и на что никто не претендовал.
А может, в мечтательном полубреду он прощался с теми, кого оставлял в земной жизни перед встречей с теми, кто ушел раньше него. Хотя вряд ли он верил во встречу где-то там. Слишком был земным для этого.
Прощай, моё солнце. Прощай, моя совесть.
Прощай, моя молодость, милый сыночек.
Пусть этим прощаньем окончится повесть
О самой глухой из глухих одиночек.
Ты в ней остаешься. Один. Отрешенный
От света и воздуха. В муке последней,
Никем не рассказанный. Не воскрешенный.
На веки веков восемнадцатилетний…
О, как далеки между нами дороги,
Идущие через столетья и через
Прибрежные те травяные отроги,
Где сломанный череп пылится, ощерясь.
Прощай. Поезда не приходят оттуда.
Прощай. Самолеты туда не летают.
Прощай. Никакого не сбудется чуда.
А сны только снятся нам. Снятся и тают…
Он умер в ноябре семьдесят восьмого года. Его похоронили на Востряковском кладбище, рядом с Зоей.
Кипса мечтала — вот он умрет, снимет с нее тяжелый груз своего присутствия, и ей станет легче. Он умер, но легче ей не стало. Недружная семья еще сильнее разъединилась, наступила бедность, потому что Кипса надеялась на какие-то скрытые денежные запасы поэта, а их не оказалось. Крупные авторские превратились для семьи в двадцать пять процентов, а Кипса привыкла за последние десять лет, что жила с отцом, тратить, не считая. Началась распродажа старинной посуды, книг, севрских статуэток, мебели.
А через два года после его смерти Кипса неожиданно сама умерла от диабетической комы, успев осуществить свою идею с окном-фонариком, но не оставив завещания, что привело к многолетней жестокой тяжбе между ее наследниками за владение дачей и имуществом поэта.
Скорее всего, прямые наследники поэта — внук, внучка и их бабушка Наталия Николаевна — сами тихо-мирно договорились бы о разделе, но, как часто случается — и Чехов замечательно точно показал это в «Трех сестрах» на образе алчной Наташи, — так и тут роль отравленных дрожжей сыграла невестка Кипсы, красивая, хваткая дама, подчинившая своей воле доброго, немножко не от мира сего мужа Андрея.
В нашем поселке дележи наследства после смерти владельца далеко не всегда проходили гладко, но более безобразной тяжбы, чем у наследников Антокольского, — что-то не припомню. Воспаленные, доходящие до бешенства ссоры сотрясали дом, перехлестывали через дачную ограду как мутный поток, на несколько лет став притчей во языцех в поселке. Наталия Николаевна, уже очень старая, пережившая и Павла Григорьевича, и дочь, пыталась примирить стороны, но она и сама поневоле оказалась «стороной», втянутой в юридические дебри. Свою долю наследства она завещала своему старшему правнуку Денису, чем вызвала ярость его мачехи и недовольство родного отца. Они требовали, чтобы старуха переписала завещание в их пользу, а когда поняли, что та тверда в своем решении, — демонстративно перестали с ней общаться.