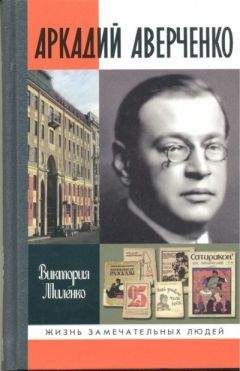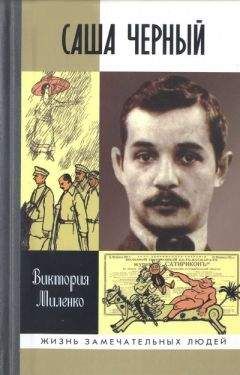Ну, Аркадинька, будь здоров. Не хандри. Не придирайся к Раичке. Крепко целую. Люблю. Рая»[123].
Судя по этому письму, Аверченко предполагал вылечиться каким-то растиранием и уповал на помощь своей бывшей петербургской горничной Нади.
В начале декабря пришло письмо от Бухова, который тоже жаловался на здоровье: «Чтобы тебя порадовать, могу сообщить тебе, что сильно волнует <меня ситуация > с почками и печенью. Не теряю надежды, что весь этот гарнитур скоро испортится и у тебя. Пять месяцев не пью. А ты, сволочь, пишешь о мадере с медом. А птичью мочу с инбирем ты не пил? То-то!»[124]
Аверченко ответил другу невесело:
«Здравствуй, старый дракон из фильмы Нибелунги!
Пока никакой Зигфрид не пропорол тебе брюха — пишу. Я, брат, здорово болен, читать и писать мне запрещено, почему эти строки я и диктую одной великосветской графине, к которой впоследствии, если ты разоришься, могу устроить тебя конюшенным мальчиком. Хотя не знаю, бывают ли лысые конюшенные мальчики! Ответом на этот вопрос можешь не спешить. Я теперь так болен, что ты, пожалуйста, свои паршивые почки не ставь рядом с моим благородным, но больным сердцем. Получил я от Горного письмо, он так тебя в этом письме страшно выругал, что пересылаю тебе кусок с восторгом сладострастья. А ты почему не ответил на мои письма, Аркадий? Если тебе за хронические кражи перебили лапы, то мог бы диктовать, правда, не графине, которая тебя и на порог не пустит, а кому-нибудь из лиц подлого сословия. Если я помру, то научи Наташку уважать память дорогого покойника. Жену Алену я целую, а тебя, старого грешника, морально обливаю кипятком, предвосхищая тем все посмертные события в аду, в номерах Чертовой бабушки, куда ты, конечно, попадешь после смерти! Аркадий, если ты не ответишь и на это письмо, то дружбы нет! И я рву совершенно наши дружеские связи. Посмотрим, как ты покрутишься без моих ароматных, благоуханных манускриптов. Подписываю с закрытыми глазами, потому что противно смотреть на тот листок, который скоро будет в твоих руках» (17 декабря 1924 года)[125].
Аркадий Тимофеевич старался не огорчать своих друзей и продолжал так же шутить, хотя самому было не до смеха. В его письмах этого времени ощутима затаенная тоска. Вот характерное послание Лизе Культвашровой, ставшее ответом на ее упреки в том, что он о ней позабыл:
«Золотая головушка!
Вы меня обокрали!
Это моя система: когда я сделаю что-либо нехорошего или вообще удивлю мир своей неблагодарностью или небрежностью, то оправданий не представляю никаких…
А вместо этого притворяться разобиженным, несчастненьким и говорить нечто подобное Вашему выражению в письме: „Я думала, что Вам не до меня да и вообще. Вам, видно, без меня весело“.
Приемчик отменно ловкий: и себя оправдает и своего корреспондента обидит, унизит, уязвит.
Однако давайте условимся в будущем на такие штуки друг с другом не пускаться.
А я был очень огорчен в свое время, что Вы, будучи в Праге, забросили меня не скажу, как собаку, потому что какая-то собачонка у Вас находится в страшном фаворе (судя по письму) — и не я буду, если при личной встрече из ревности не оборву ей уши и хвост. Впрочем, может быть, это уже сделано?
Итак, долой собак и да здравствуют чудные, грандиозные люди вроде меня!
Вы бы, Лизочка, гордились лучше, чем так-то жить… Ведь не проходит дня, чтобы мы с Косточкой о Вас не вспомнили и как это выходит красиво, логично: заговорим о какой-нибудь знакомой даме, начнем ее разбирать и окончим таким вечным припевом:
— А все-таки лучше нашей Лизочки нет!
— Ну, Лизочка! Она замечательная!
— Чудесная!
— Эх, повидать бы ее!
Еще вчера был точь-в-точь такой разговор.
Однако по Праге среди туч угольной пыли пронесся один ароматный слух: будто Вы очень скоро приедете в Прагу!
Если язык моего бледнолицего брата Косточки — круглые очки и он не лжет — то это будет превосходно! Заранее ангажирую Вас на спектакли Художественного Театра и на пару-другую кинофильмов. А уж сколько смешных глупостей будет за Ваш приезд — так это на трех возах не увезете. <…>
Кое-что написал за это время. Очевидно, Ваш вольноотпущенный Пегас заскочил по дороге ко мне. Одним словом: рассказов за это время — урожайно.
Итак: или немедленно сломя голову приезжайте или сломя таковую же — отвечайте — как и что!
Уж очень хочется повидаться, накарай мою душу Господь, как говорят севастопольские мальчишки.
Славному вояке Карле шлю дружеский поцелуй. Вам — восторженное целование левой ручонки, а собачке Вашей крепкий пинок под брюхо: у Карли это должно хорошо выйти.
Всегда Ваш А. Аверченко»[126].
К концу декабря Аркадию Тимофеевичу стало настолько плохо, что его запасы оптимизма и юмора начали иссякать. Накануне нового, 1925 года он едва ли не впервые в жизни серьезно ответил на просьбу газеты «Эхо» поделиться с читателями пожеланиями:
«Врачи на время запретили мне работать, запретили читать и писать, и я лишен поэтому возможности формулировать свои новогодние пожелания так подробно, как я бы это сделал, если бы был здоров. В двух строках мои пожелания таковы:
— На будущий год я желаю России снова сделаться Россией, а русской эмиграции перестать быть эмиграцией».
Обеспокоенные друзья заставили писателя пройти полное обследование в клинике профессора Младеевского, специалиста по сердечным заболеваниям и артериосклерозу. Доктор предписал диету и лечение на курорте. Лиза Культвашрова советовала Аверченко поехать в Яхимов — родоновую здравницу в окрестностях Карловых Вар. Он невесело отвечал: «Насчет Яхимова это — может быть, богатая идея, а может, и нет. Все будет зависеть от профессора, у которого я думаю спроситься. Как он скажет? А Вам, золотой дружочек, спасибо за заботу обо мне. И Карли за то же поцелуйте. Мне и самому Прага осточертела, как старая унылая жена с длинным носом и кривыми губами».
Младеевский, у которого Аверченко «спросился», велел отправиться на шесть недель на курорт Подебрады для сердечных больных. Этот старинный городок, расположенный в 45 километрах от Праги, славился и славится мощными источниками минеральных вод с высоким содержанием углекислого газа, магния, кальция, сероводорода.
Аверченко решил ехать. Проводить его вызвался верный Бельговский.
«Мой глупый, родной Аркадинька! — писала Раиса Раич. — Просто поразительно, как тебе не везет. Нет года, как ты беспрерывно болеешь, и каждый раз что-нибудь другое. Мой родной… как можно скорее поезжай в Подебрады и серьезно полечись. Как ты там, бедненький, будешь жить? Если бы я могла, я бы прискочила к тебе и поехала бы с тобой в Подебрады. Я думаю, что Женя может к тебе приехать, он сейчас в отпуске. Делает контракты.