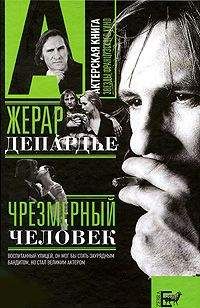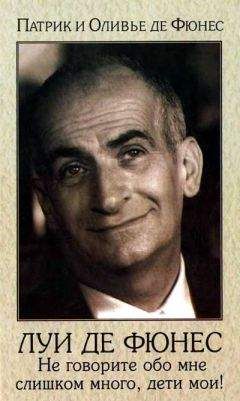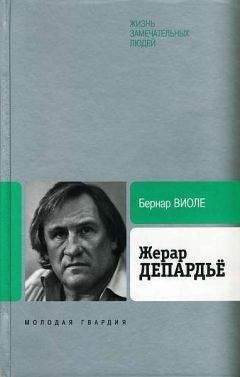Каким-то пронзительным, неестественным голосом ты завывал: «Так жить нельзя, я когда-нибудь пристрелю себя!» Или: «Мы не поддадимся, верно? Мы им не уступим!» Им – это был весь мир. Ты всегда его боялся. Теперь я могу тебе сказать без стеснения: я неизменно ощущал присутствие смерти рядом с тобой. Более того, я был уверен, что ты нас покинешь. Но я ни с кем не делился своей уверенностью. Я ничего не мог поделать. Я был лишь простым зрителем. Твое самоубийство стало плодом долгой и тяжелой болезни. Узнав о нем, я сказал себе: «Вот и все». А что тут еще скажешь? Я не стану переигрывать, как плохой актер. Я лишь животное, мне все безразлично, я и понятия не имею о смерти. Я – сама жизнь, со всем чудовищным, что с ней связано. Нельзя жить с ощущением вины, повторяя то и дело: «Я должен был бы», «Я бы мог…» К чему зря драть глотку?
Когда я потерял мать, я испытал странное чувство. Я не стал плакать, жалеть себя. Люди говорили мне: «Это придет потом». Но этого не случилось и потом. Лилетта была просто матерью. Мы любили друг друга, мы ссорились. С тех пор как ее нет, я еще больше чувствую ее близость. Я думаю о ней, разговариваю с ней. Когда она была жива, я просто знал, что она сидит у себя в углу. То, что она ушла, невероятная, неслыханная удача. Смею даже написать: с тех пор я обрел мать.
Конечно, если я потеряю Элизабет, я лишусь всего. Даже не знаю, что со мной будет. Возникнет боль в боку, я не стану лечиться, повисну в воздухе, а потом – рухну. Таков будет мой выбор. Я всегда говорил, что не позволю смерти замордовать себя. Себя и своих ближних. Я и тебе это часто говорил, Патрик. Вероятно, помимо своей воли, я начал это письмо с подспудным намерением рассказать тебе о своем коте. Мне просто необходимо рассказать о его смерти. Когда это случилось, я ревел, как плакальщица в трагедии. Просто не мог остановиться. Открылись все краны. Что он скоро умрет, я понял в ту минуту, когда увидел, как он уходит из дома на ночь – спать. Ему было десять лет – возраст не такой уж большой для кошек. Он ложился под глицинией, и всякий раз, когда я приходил за ним, он не сопротивлялся. Он был тяжелый. Из-за своей болезни. Эта его болезнь сразила меня. Я все понимал, а он ничего не мог мне сказать. Он был для меня самим воплощением кошки. Кошка – это кошка. Сказав себе «он болен», я стал думать о нем как о близком существе. И мне стало ужасно больно. Я подумал, сколько еще всякого мы могли бы сказать друг другу. И по обыкновению погладил его, посмотрел на него, прикоснулся к его мордочке. Он позволял это делать только мне. Он был болен и молчал, никак не реагируя. Вот когда я понял, что такое бессилие. Я страдал от своего бессилия точно так же, как было, когда ушла ты, Лилетта, когда ушел мой кот. Он умер от человеческой болезни – от рака. Я похоронил его в нашем саду.
Просыпаясь утром, я находил его голову на своей груди. Едва ощутив его присутствие, я чувствовал, как на меня нисходит покой. У меня был кот, с которым я мог беседовать. Скажешь: бред. Однако не так уж просто объяснять сложные вещи. Кот олицетворяет свободу. Он понимает твои блуждания и следует по пятам. Когда ты переполнен счастьем, рядом неизменно появляется кот. В фильмах Франсуа Трюффо рядом со счастливыми героями всегда шастает кошка.
Мы оба, Патрик, познали мгновения покоя и самоотрешения. Мгновения отдыха воинов. Знаешь, я был бы не прочь завести с тобой интрижку. Не дергайся. Ничего похожего на содомию с веслами в «Вальсирующих». Те ребята поступают так исключительно потому, что им скучно. Им надоело бродяжничать. Они прижимаются друг к другу, чтобы иметь силы тащиться дальше. И напиваются они потому, что начинают в себе сомневаться. Такова одна из проблем преступности, которую так трудно бывает объяснить.
Гомосексуализм – вещь куда более тонкая, чем думают иные. Я и понятия о нем не имею, просто не знаю, что это такое. Знаю только, что мужчина, женщина, животное, бутылка вина – все это позволяет человеку испытать мгновение разделенной благодати.
Все это приводит меня к мысли об удачно снятом кадре. В нем всегда есть что-то иррациональное. Мы работаем часами, теряем время на пересъемки, поправки, и вдруг – удача. Совершенно непонятно, как нам это удалось, просто озарение блеснуло, и кадр получился. Я никак не могу отделаться от мысли, Патрик, что если бы ты был жив[12], то, вероятно, именно тебя я поцеловал бы в «Вечернем платье».
Марко Феррери
Дорогой Марко!
Все началось как нельзя лучше. После съемок в «Двадцатом веке» Бертолуччи я приехал в Рим за расчетом. Мы случайно пересеклись в конторе на студии. Ты был еще в ореоле успеха «Большой жратвы». Мы разговорились.
– Вы сейчас свободны?
– Почему вы спрашиваете?
– Мне нужен актер на роль человека, который отрезает свой член.
– Вот как! А почему он это делает?
– Потому что его бросила жена, потому что он один с ребенком, потому что без работы.
– Тогда о'кей! Я согласен.
Мне очень нравился фильм «Большая жратва». В него была заложена интересная, важная мысль. Все твои картины интересны по мысли. А теперь, прежде чем читать дальше, советую вернуться назад. Комплиментам конец, сладкой речи тоже. Держись, Марко! Но все равно мне не дотянуться до того, что я сказал о тебе в итальянской «Коррьере делла серра»: «Он так жаден, что не хочет расстаться со своим дерьмом, и оно бьет ему в голову». Конечно, это было не слишком любезно, но я как-то и не думал, что они напечатают. Однако я не стал от тебя прятаться, переходить на другую сторону улицы. Я ведь не раз говорил тебе все это в присутствии Изабель Юппер на съемках картины «История Пьеры».
Впрочем, то, что я намерен сказать теперь, я никогда не скрывал от всех, кто лишен свободного дыхания, лирики, кто вкладывает столько сил в выпендреж, пытаясь заставить себя высидеть пасхальное яичко. Мне не по душе, с каким наслаждением ты предаешься своим порокам, копаешься в своих недостатках. Сначала ты разыгрывал наставника, дающего уроки, пророка. Покушаясь на человеческие пороки, ты полагаешь, что действуешь подобно серной кислоте. А людям плевать. И на твою кислоту тоже. Ты считаешь себя пионером, а я утверждаю, что ты опоздал на последний поезд метро, что ты начинаешь серьезно отставать. Как видишь, Марко, я сел на своего любимого конька. Теперь мне будет непросто остановиться. Ты все время мучаешься вопросом, что есть человек. Ты говоришь ему, кто он такой и во что превращается в окружающем нас и все время меняющемся обществе. Мне противна эта апокалиптическая экология, твоя немного дешевая философия. Ты восстаешь против общих мест, тогда как надлежит исследовать детали, поверхность вещей, как говорит Моравиа. Категоричность твоих суждений, постоянная нравоучительность вызывают у меня гул в ушах. Ты словно помещаешь меня в исправительный дом. Иначе это можно назвать объяснением между ясновидящим и гадалкой. «Человек таков, потому что это означает то-то». Мне опротивели идеи. Я не разочарован в твоих фильмах – это хорошие картины, но не разочарован только потому, что не был очарован.
Обожди! Не вскакивай с места! Я еще не закончил! Мне хотелось тебе сказать, что тебе присуща мерзкая привычка смешивать страх, связанный с реализацией замысла, с истинным страхом творчества. С раннего утра ты озабочен лишь суммой, в которую обойдется картина, сколько надо заплатить группе, внести в социальный фонд. К концу съемок ты только и думаешь о счетах бакалейщика, о разных других счетах. Я и на Жан-Жака Бейнекса сердился из-за его одержимости мыслями о кошельке. Согласившись снимать «Луну в канаве», он был исполнен ненависти ко всему миру, хотя недурно заработал на «Диве» – думаю, около одного процента от миллиарда. Подобные истории случались со мной много раз. Я знаю кучу людей, которые давно должны мне. Я предоставляю им возможность самим оценить меня, понять, во сколько обходится моя дружба. Иные из них в упор меня не видят из-за десяти тысяч, другие – из-за двадцати. Поистине в проигрыше остаются они сами. Я приложил все силы, чтобы унять Бейнекса, убедить его в том, что несмотря ни на что, мы все вместе должны снять фильм. Но ему никак не удавалось забыть обо всех этих процентах, и я быстро понял, что стал пешкой в затеянной им мести.
Вот так-то. Теперь мне полегчало. Мне просто необходимо было освободиться от плохих воспоминаний. Я не могу себе в этом отказать. Все начинается внезапно, а потом – пошло-поехало! Когда мы встретились с Франсуа Трюффо, я сказал ему, что мне не по душе его «дипломатия», что мне противны его «Украденные поцелуи». Что поделать, Марко, стресс появляется у человека по вине его окружения, и тогда он уже не в состоянии жить в гармонии с самим собой.
Жан-Луи Ливи [13]
Когда перед самым приездом в Париж я бросил школу и начал путешествовать, мне страшно не хватало школьного двора, где мы бегали на переменках. И уж никогда я не думал, что встречу приятеля по классу, готового прийти на выручку. Я был отягощен своим одиночеством, запутался в разных делах и был просто не способен на общение, насторожен и боязлив. Между школой и открывшимся миром у меня не было промежуточной стадии. Я не учился в лицее. Когда же, по выражению Бертрана Блие, «жизненный вихрь» унес меня, я затаился. У меня не было ни гида, ни зрелой любовницы, чтобы помочь шагнуть в жизнь, следуя тем правилам, которые позволяют вернуться на исходную точку. А затем я очень просто повстречал тебя! Я пришел в контору «Артмедиа»[14] на улице Марбеф. Тебя буквально не было видно за огромным, наполеоновским столом. Вспоминается любезный, полноватый молодой человек с мягким взглядом и ласковым голосом. Не знаю, что случилось, но мы сразу понравились друг другу. Наш разговор походил на беседу двух потерявшихся, брошенных, немного неловких, немного печальных молодых людей. Считай меня полным ничтожеством, но я все же скажу: я почувствовал, что мы принадлежим к одной семье. От тебя исходил запах друга, да – запах друга, иначе не скажешь.