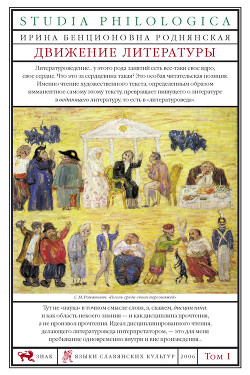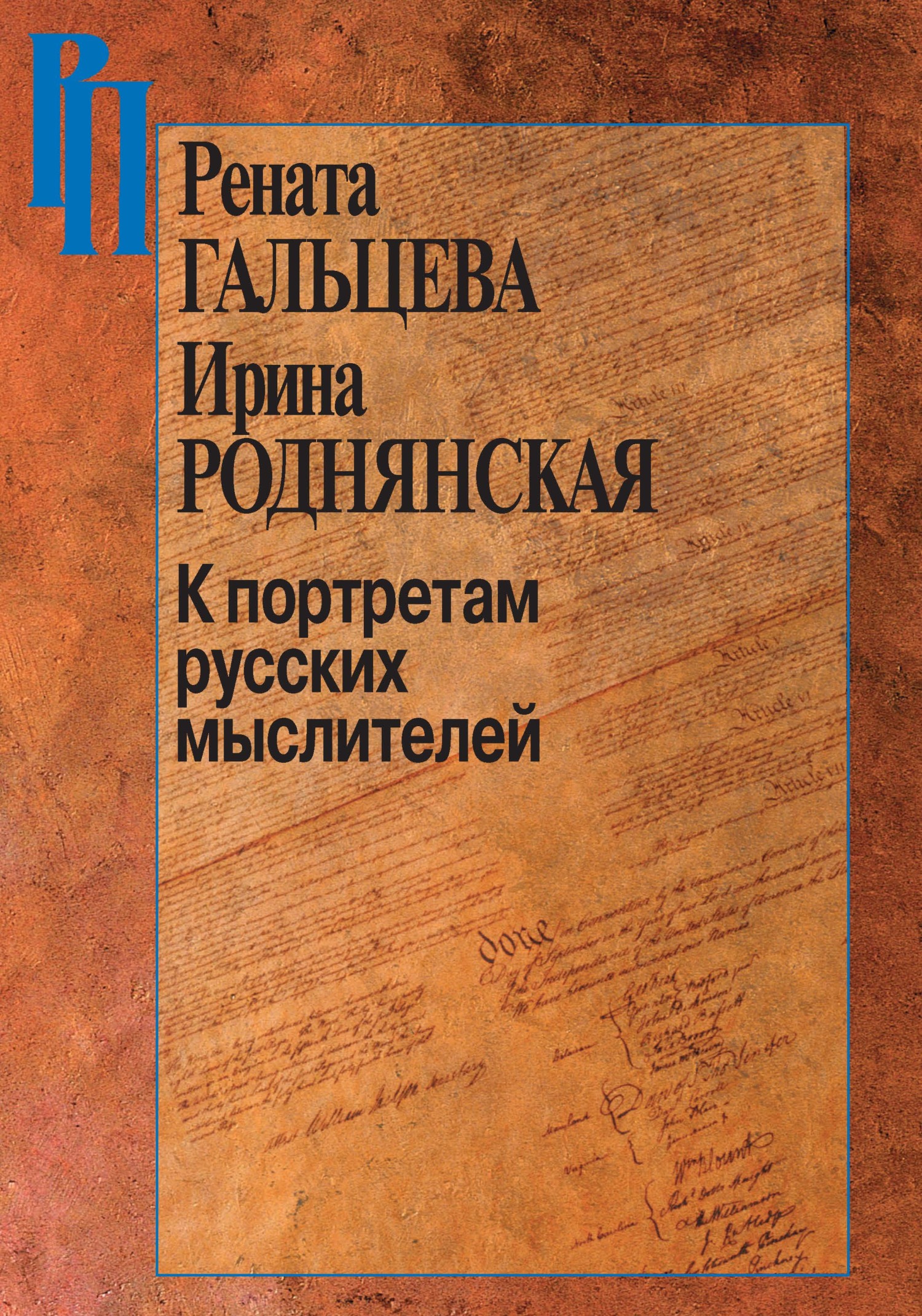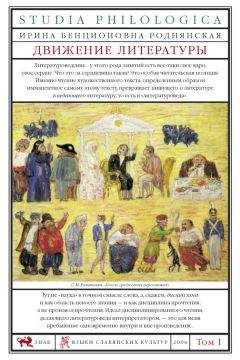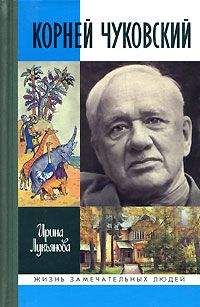Короче говоря, свято место пусто не бывает, и если в ходе общеевропейской истории занять его оказался бессилен религиозный наставник, его тут же занял писатель, ибо службе слова естественней всего пасти убежавших от пастыря «словесных овец». Понятное дело, не все тут гладко, такое «завышенное» место писателя несколько двусмысленно, и подлинное посланничество здесь так тесно переплетено с невольным самозванством, что даже великие из великих – Гоголь, Достоевский, Толстой – от его привкуса не совсем свободны. Уже в наши дни, в 60-х годах, Генрих Бёлль сокрушался: «Где политика отказывает или терпит провал – вспоминаю об истерической горячке, с какой у писателей вымогались высказывания против берлинской стены, – от авторов, как нарочно, начинают требовать слова, обязывающего слова… писателей пытаются побудить к высказываниям о политических, социальных, религиозных вопросах. Высокая честь, я бы сказал, слишком высокая честь… когда среди джунглей определений от вас требуют того единственного прямого слова, которое станет для всех обязательным. Спрашивают не с науки, не с политики, не с церквей… Писатели должны назвать ребенка по имени. Политики увертываются, люди церкви в своих публичных высказываниях хитры как змии – бесхитростного, правдивого слова люди ждут от писателей» («Франкфуртские чтения», перевод В. В. Бибихина). Как видите, еще недавно подобное бывало не только у нас, и о том же говорит плотная олитературенность такого влиятельного философского течения, как французский экзистенциализм: его мэтры столько же писатели, романисты, сколько мыслители.
Отказался ли сегодняшний писатель от этой «слишком высокой чести»? Отказало ли ему в ней общество? Судить с определенностью не берусь. Сейчас как будто проповедуется писательская «беспосланность» (это удачно изобретенное И. Дедковым слово, как «безочарование», найденное когда-то Жуковским, прекрасно «переводит на русский» формулу, предложенную Ортегой-и-Гасетом для характеристики авангарда: «нетрансцендентность»). Между тем ироническое и надрывно-вызывающее отречение от учительства не есть ли то же самое учительство навыворот? Наши крайние левые в литературе, брезгливо шарахающиеся от старого «гиперморализма» (Виктор Ерофеев), то и дело манифестируют, декларируют, демонстрируют и вообще на свой лад морализируют, силясь попасть с чисто эстетической обочины, где их могли бы смаковать немногие знатоки, в самый центр общественного внимания. По-моему, они ни от чего не собираются отказываться, даже от того, что им не принадлежит.
С другой стороны, кто мог бы занять свято место, если писатель его покинет? Либо это место самоликвидируется и мы получим ту самую «горизонтальную», вырожденную цивилизацию без святыни, приход которой нам столько раз пророчили, но в реальность которой так-таки никто до конца не верит. Либо его займет законный предстоятель, и в обществе, культуре, цивилизации совершится процесс религиозного возрождения и обновления, не легкомысленно-декоративный, как это часто происходит теперь (говорю о культурной, не о собственно церковной, жизни), но глубинный, преображающий, а заодно – передвигающий искусство с «завышенного» места на более скромное и, в каком-то достойном смысле, подсобное.
А пока, мне кажется, все идет как прежде. Вот, с телеэкрана у Татьяны Толстой выспрашивают, как жить и как быть, с тем же пристрастием, что и, в оны времена, приезжая в Ясную Поляну, – у Льва Толстого. И если на какое-то время внимание нашего взбудораженного общества переключилось с литературы на политику и экономику, это еще не значит, что наступил новый культурный эон с новой субординацией интересов и занятий. Когда говорят пушки, музы молчат, когда все ждут, что пушки заговорят вот-вот, музы молчат тоже. К тому же такие временные переключения прочь от искусства – я уже вспоминала «нигилистов» и «реалистов» – случались и в прошлом веке. Но существа дела они не меняли. Ибо в обмирщенном, «постхристианском» обществе искусство, именно оно, остается вынужденным прибежищем духа, – таков ответ на вопрос о центральном или обочинном месте «эстетической деятельности» в наше время. Русское же искусство послепетровской эпохи, как справедливо на сей раз заметил Эпштейн, – логоцентрично, словесность – его сердцевина.
Но кто действительно лишился в культуре своего видного места, так это литературная критика. Привыкшая за последние десятилетия считать художественный язык не более чем эзоповым языком задавленной гражданственности, с этой именно меркой подходившая к новосоздаваемым текстам, она, объявив о конце эзопова языка (может, поторопилась?), одновременно и себе подписала чуть ли не смертный приговор. Ей не о чем стало говорить, отправляясь от художественного слова, когда то же самое позволительно говорить, отправляясь непосредственно от жизни. И теперешние утверждения, что творческий вымысел никому уже не интересен, что образное слово писателя бессильно и даже лживо в сравнении с прямым, точным словом политика и публициста, – все эти торопливые критические диагнозы я понимаю как инстинктивный способ самозащиты, как подспудное желание переложить тяжесть ситуации с больной головы критики на не такую уж больную голову художественной словесности. В наличии слишком мало оказалось охоты и умения толковать символику вещей неоднозначных, постигать множественность смыслов, имеющую совсем иную природу, чем двусмысленность эзопова языка… Понятно, например, что широкая публика предпочла «Одлян» Л. Габышева «Отцу Лесу» А. Кима. Но мне и от профессиональных ценителей приходилось слышать, что вымысел Кима после публицистической правды выглядит нескромной имитацией ставших теперь доступными человеческих документов. Между тем в своем романе Ким сумел дать словесную плоть таким космическим сгусткам боли, что как раз преодолел и превозмог голый ужас документа; но на это преложение боли в скорбь, достижимое властью искусства, никто, кажется, не обратил особого внимания. Впрочем, поскольку я не собираюсь предрекать смерть литературе, то надеюсь, что и критика, ее давняя спутница, лежащая нынче на одре болезни, как-нибудь да выздоровеет, обретя новое, искусствоведческое и философское, дыхание.
Вообще говоря, наши рассуждения, не исключая и этого, страдают некой отлетностью. С такой вышки скрывшийся из виду литературный процесс не обнаружить, нужно войти внутрь его, приблизить глаз к деталям и частностям. Под огромными глыбами «задержанных» произведений, так резко изменившими всю литературную топографию, бежит тоненький ручеек этого самого естественного процесса. Можно пометить какой-нибудь атом, молекулу – и проследить, куда ручей течет. Вот простенький опыт: сравнить бы один из лучших рассказов Василия Гроссмана «На вечном покое», рассказ Андрея Битова «Инфантьев» и – писательницы нового поколения Ларисы Ванеевой «Взлет» (в ее сборнике «Из куба». М., 1990). Во всех трех речь идет о загадке смерти, о том, как осваиваются со смертью и смертностью, заговаривают их остающиеся жить, о великом «быть может», которое веет за чертой. Но до чего же изменчиво литературное сознание, выраженное характерными и высокоталантливыми представителями разных его фаз! Как одолевается скепсис проблесками веры и как потом разрешается она в какую-то мистическую вибрацию! Как изощряется и истончается форма – от простодушного довления своему предмету до его опрозрачения и растворения в силовом поле искусства! И как ощутимо самодвижение литературы, которое неодолимо внешними воздействиями какого угодно напора и вместе с тем всякий раз вбирает в себя духовные токи времени…
Неодолимость извне, конечно, всегда сопряжена с творческой волей, выгребающей «против течения». Напомню старомодного Алексея Константиновича Толстого:
Верх над конечным возьмет бесконечное
Верою в наше святое значение
Мы же возбудим течение встречное
Против течения!
Творческая воля в культуре, ее вертикаль, всегда была вынуждена и предназначена преодолевать растекающуюся вширь, инерционную приспособительность; но теперь, я думаю, это дается ей трудней, чем когда-либо, так как литературная реклама, конструирование «имиджа», преднамеренное формирование и последующее давление массовых мнений – все это работает на «течение» и как никогда затрудняет сопротивление ему.