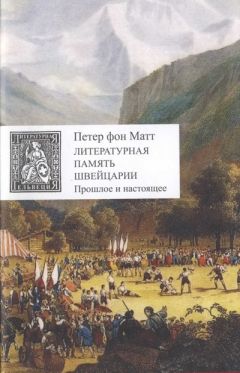Они въезжают в страну, они выезжают из страны… «Чужак в Швейцарии»: это, уже несколько столетий, тема не менее значимая, чем «Швейцарец на чужбине». То и другое — и как жизненные реалии, и как особый предмет изображения в литературе — остается важной частью политической и художественной культуры нашей страны. Рихард Вагнер в Цюрихе[59]: для литературы это был бы первоклассный материал, но пока никто из писателей им не заинтересовался. А вот поэма об Ульрихе фон Гуттене[60], умирающем на острове Уфенау, стала прорывом для Конрада Фердинанда Мейера. Темой литературного сочинения могли бы стать и умирающий Бюхнер, и умирающий Музиль, и умирающий Георге[61]. «Клейст в Туне» — один из лучших текстов Роберта Вальзера, что неудивительно, если вспомнить, что и сам Вальзер вел странническое существование. У Готхельфа чужак в Швейцарии всегда выглядит либо подозрительным, либо комичным. Щепетильным по части приличий этот автор никогда не бывает, и ждать от него политической корректности не стоит. Он может выражаться — по отношению к чужакам — шокирующе неприязненно, без стеснения употреблять расхожие клише. Всякий раз только в процессе рассказывания взгляд рассказчика постепенно становится пристальным, и тогда такие банальности уступают место более дифференцированной картине. Поразительный пример тому — репортаж о катастрофическом наводнении 13 августа 1837 года: маленький, но в литературном смысле мощно написанный текст, который, под заголовком «Наводнение в Эмментале», был опубликован вскоре после самого события, как документальное свидетельство и попытка интерпретации. После того как первый страх прошел и люди, ошеломленные разрушениями и множеством человеческих жертв, начали мало-помалу приходить в себя, в опустошенной местности внезапно появляется англичанин, который хочет осмотреть место трагедии. Этот эпизод привносит в повествование, которое и без него отличается переходами от одного стилистического уровня к другому, еще одну, гротескно-комедийную краску. И на таком примере удобно проследить, как клоунская двухмерная фигура под рукой выдающегося рассказчика может обрести объемность:
И тут вдруг посреди мрачно-сосредоточенной толпы вынырнул англичанин: над выпученными глазами — знакомая соломенная шляпа, наманикюренные большие пальцы засунуты в знакомые проймы жилета. Откуда англичанин пришел и куда направляется, это уже стало легендой, потому что одни люди утверждали, что он будто бы хочет подняться вверх по долине, другие — что только что спустился. Как бы то ни было, он объявился в Рётенбахе, идти дальше пешком не пожелал и стал требовать — на неописуемом языке — транспортное средство для своего драгоценного тела. Лишь с трудом удалось втолковать ему, что сейчас ни в повозке, ни верхом никуда не проедешь. Тогда он потребовал паланкин; люди недоуменно переглядывались и долго не могли понять, что это такое. Наконец кто-то понял; но какой от этого прок, если в Рётенбахе паланкинов отродясь не бывало! К счастью, люди не растерялись, а быстро сообразили, что любое кресло, на котором кого-то понесут, превратится в переносное кресло, то бишь в паланкин. Они принялись искать какое-нибудь старое кресло и вытащили из чулана переносной стульчак; потом отломили рукоятки от тачки и крепкими веревками прикрутили их к стульчаку.
Пока шли эти приготовления, вокруг собралась немалая толпа; люди, забыв о недавних мрачных мыслях, глазели на странного англичанина. Теперь смех играл на всех лицах, остроты так и витали в воздухе, веселые и изобильные. Англичанин же стоял посреди смеющейся, насмешничающей толпы, по-прежнему держа большие пальцы в проймах жилета, — с тупым равнодушием или с высокомерием, как и положено настоящему лорду; а что простой народ смеется над ним, воспринимает его, как воробьи могли бы воспринимать застигнутую дневным светом сову, это его нисколько не смущало! О, один такой англичанин может скопить в себе несравненно больше высокомерия, чем все наши благородные сынки, вместе взятые; они-то непрестанно домогаются чего-то, как камышовые овсянки или лягушки в пруду, тогда как такой англичанин остается в неподвижности, словно какое-то божество над всей этой мелкой тварью. Наконец под восторженные крики англичанин уселся в старое кресло, свесив ноги и по-прежнему со скрещенными руками. Поднятый в воздух двумя крепкими парнями, сопровождаемый веселящейся толпой, он начал свое путешествие, а Насмешка следовала за ним, вспыхивала и на всех встречных лицах. Он же оставался неподвижным, лишь иногда менял положение затекших ног и время от времени оделял кого-нибудь монеткой. Он исчез, как и появился, — никто уже не помнил, в каком направлении; но после него распространился слух: будто бы он сказал, что теперь отбывает в Англию, а там намеревается рассказать своему кузену, как худо пришлось здешним жителям, и тогда, мол, кузен непременно пришлет им миллион, — этого миллиона они на полном серьезе ожидают до сего дня[62].
Здесь чужак предстает как совсем другой, как экзотическое событие в местности, которая еще не сталкивалась с туризмом; чужак — это вторжение неведомого мира. Эмментальцы видят в англичанине только гротескные черты; они не замечают, что и сами в его глазах становятся странными туземцами, как какое-нибудь негритянское племя — под холодным взглядом колонизатора. Наличие такой двойной оптики — достижение рассказчика. Местные крестьяне не производят впечатление представителей некоего правильного мира, перед которым должно выдержать проверку все то, что приходит извне, — хотя им самим именно так и кажется, и их смех это подтверждает; но неколебимое высокомерие англичанина ставит под сомнение такую позицию, превращает и свое, и чужое в нечто противоположное, и наказанием за чувство собственного превосходства становится комичность ситуации, не предусмотренная ее участниками.
По-другому обстоит дело с чужой женщиной из новеллы Готхельфа «Черный паук». Женщина — опять-таки в соответствии с расхожим клише — становится вратами, через которые проникает зло (с несомненной аллюзией на многовековую традицию интерпретации образа Евы). Эта «женщина из Линдау», как о ней говорят, потому что она происходит с другого берега Боденского озера, ни в какой момент повествования не кажется комичной. Мужество, потребное для того, чтобы вступить в сделку с дьяволом, отличает ее от местных жителей — как и ее ужасная судьба. В конце концов она превращается в орудие мести дьявола и становится, испытывая невыносимые муки, черным пауком, воплощением пришедшей в долину чумы. Готхельф не пытается избегнуть стереотипного отождествления всего чужеродного со злом, но по ходу повествования, шаг за шагом, такое отождествление размывается, потому что причастными к вине оказываются все крестьяне. Правда, упомянутое тривиальное отождествление все равно остается элементом новеллы, но свести ее общий смысл к такому отождествлению невозможно.
Одним из центральных проектов для литературы Швейцарии могла бы быть тема чужаков: чужаков-беженцев. На протяжении двух столетий волны политических беженцев вновь и вновь становились для Швейцарии необозримым в своих последствиях событием — после 1830-го, после 1848 года, в период Первой мировой войны, во время фашистского и коммунистического режимов, в годы Второй мировой войны и, наконец, уже в XXI веке, потому что войны и голод по-прежнему вынуждают людей в разных концах мира покидать свою родину. Параллельно этому происходил — со времени начала железнодорожного строительства, то есть приблизительно с того времени, когда Коллер писал свою «Готардскую почту», — приток иностранной рабочей силы, в которой швейцарцы периодически испытывали настоятельную потребность, хотя и предпочли бы, чтобы ее в стране не было. Иностранные рабочие, можно сказать, являли собой еще одну трещину в идиллии, и всякий раз, когда начинался спад экономики, с безработицей боролись таким образом, что чужаков просто выдворяли в страну их происхождения, где для них не было никаких шансов и откуда они пытались уехать. Деревообрабатывающая промышленность получала неплохие доходы от строительства бессчетных бараков, в которых жили эти иностранные рабочие, а иногда и беженцы. Деревянные бараки как противоположность деревянным шале — на эту тему стоило бы поразмыслить.
Предметом изображения в литературе Швейцарии беженцы становятся реже, чем мы могли бы ожидать. Что удивительно, если вспомнить о той важной роли, которую многие бывшие беженцы и иммигранты играют в культуре и политике. В литературе они, как правило, занимают эпизодическое место, но иногда внезапно обретают запоминающиеся черты. Назвать образцовую новеллу о беженцах, или роман о беженцах, или пьесу о беженцах не так просто. «Беженец», горький гротеск Дюрренматта, написанный в 1948 году, остался почти неизвестным публике. Пожалуй, на такой ранг может претендовать пьеса Томаса Хюрлимана «Дедушка и сводный брат» (1981). Но, как правило, простые факты о жизни, борьбе за существование и повторном изгнании бежавших в Швейцарию людей (например, писательниц и писателей) производят более сильное впечатление, чем литературные переработки таких сюжетов. Вспомним хотя бы о несчастной и великой Эльзе Ласкер-Шюлер[63]. С фильмами и научной литературой дело в этом смысле обстоит иначе.