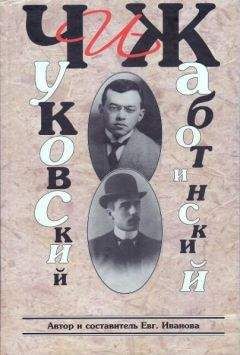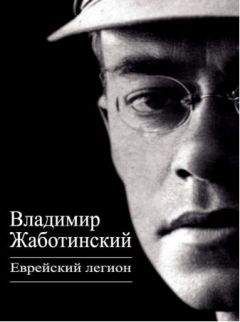«Однажды вечером, — констатирует он, — на скамье подле больничной аптеки сидели эконом, смотритель и аптекарь и смертельно скучали».
Ведь это же схема, которую нужно еще заполнить, а г. Юшкевич считает себя вправе после нее сказать:
«Вдруг раздался жестокий голос:
— Не поколотить ли нам Михеля?»
И этот голос для нас — сюрприз, и не верим мы этому голосу.
Всякое внешнее «вдруг» — внутренне должно быть «потому что». А у г. Юшкевича оно и внешне и внутренне вдруг.
В повести «Пролог», например, Никита вдруг начинает бить любимую Анну. Это бывает. Но здесь это для нас такой же сюрприз, как если бы Анна побила Никиту.
Пройдя полтораста страниц различных похождений, Никита приходит к выводу: в людях сила, — и этот вывод для нас тоже сюрприз. Не мы его вывели и не Никита, а самодержавный г. Юшкевич.
Никита изменил Елизавете, и «утром Елизавету нашли мертвой; она лежала в луже крови с перерезанным горлом», — и это для нас сюрприз.
Служанка Ирина (в драме «Чужая») говорит длинные, пресные монологи, а потом идет и вешается на «толстой (!) веревке», — и это для нас сюрприз, ибо монологи были произвольны и к смерти нисколько не вели.
В рассказе «Гувернантка» гувернантка Марья Васильевна выбрасывается из окна, — и это тоже сюрприз.
Словом, какая-то бонбоньерка с сюрпризами, а не писатель!
Но, Боже мой, сюрприз есть произвольность, случайность, лотерея, а при лотерее какое же искусство?
Попробуйте, не пережив — ну хотя бы кораблекрушения, — рассказывать о нем. У вас все будет либо шаблон, либо сюрприз, произвольность, «вдруг». Г. Юшкевич так и мечется между этими двумя возможностями, и вывод из этого один: кораблекрушения, о котором он говорит, никогда не было. Другое, повторяю, было бы дело, если бы г. Юшкевич описал свою собственную зубную боль.
VI
А для того, чтобы сюрприз и шаблон были для нас хоть сколько-нибудь убедительны, г. Юшкевич прибегает к приему всех, кораблекрушения не испытавших, но пытающихся его изобразить. Он зовет на помощь преувеличение. «Преувеличение есть в искусстве путь наименьшей трудности».
Бедная женщина — «наша сестра» — не заплатила за квартиру.
Мысль об этом бьет ее, «как палкой по голове», вызывает в ней «судороги», «исступление», «столбняк» и желание «перерезать всех детей до единого».
Так говорит г. Юшкевич в рассказе «Портной», и у нас, конечно, нет никаких причин ему не верить.
А один народник в повести г. Юшкевича, когда познакомился с марксистом, так рассказал об этом знакомстве в своем дневнике:
«Я сидел против него, весь замирая от разраставшегося во мне ужаса. И когда он (марксист) случайно бросил взгляд в мою сторону, меня мороз подрал по коже».
Потом народник заговорил, брызгая слюной, а марксист отодвинулся. Народник признался: «О, как это ущемило мое сердце!» Потом он пришел домой и «избил себе кулаками голову от ужаса» («Записки студента Павлова»).
Об этом мы также знаем от г. Юшкевича, и, опять-таки, зачем нам сомневаться в его словах?
И все же почему мы сомневаемся?
Что народники могли избивать себе голову кулаками, мы верим. Что от одного марксистского взора их драл по коже мороз, мы тоже верим. Что мысль о квартирном хозяине — это палка, бьющая по голове, мы наипаче верим. Не верим же мы в это только тогда, когда об этом говорит г. Юшкевич.
Именно потому, что он говорит. Он говорит: «удары палкой по голове». А я жду, когда же он этой самой палкой ударит меня по голове. Он говорит: «ужас, ужас, ужас!» А я жду, когда же он ужаснет меня. Он говорит: «это твои сестры». А я хочу, чтоб он породнил меня.
Вот единственное условие, на котором мы можем поверить художнику. Как он может его выполнить, я не знаю, но думаю, что даже с теми примитивными художественными средствами, которыми располагает г. Юшкевич, ему бы удалось это, если бы ему был дан источник всякого таланта и всякого искусства — искренность. Иначе художник — Хлестаков, сколько бы тысяч курьеров ни привлекал он себе в помощь.
Как бы художник ни подхлестывал бескровный свой пафос, как бы ни подогревал свою тепловатую лирику, — электропояс заменит ли истинную страсть? Слова, за которыми не скрываются вещи, навеки останутся импотентными — и сыпь без конца «столбняками», «исступлениями», «судорогами», «ударами палкой по голове», они вызовут только скуку, — не слова, а недотыкомки какие-то!
VII
Кое-что из написанного мною выше мне уже приходилось писать и прежде, и если я повторяю здесь свои прежние мысли и прежние слова, то потому, что мне кажется, будто я пришел к каким-то новым и нечаянным выводам.
Мне вдруг подумалось: ведь не лжет же г. Юшкевич и не притворяется, когда высказывает свою любовь и свою ненависть. Зачем бы ему притворяться? Человек всю жизнь, и все дарование, и всю свою душу вкладывал в одно любимое дело: имею ли я право подозревать его? Конечно нет, ни одной минуты.
Но что же тогда за проклятие тяготеет над ним?
Почему его слова так неосязательны? Почему мы фатально не верим им? Почему, когда он говорит свое, у него фатально выходит пародия? Почему его душа, — верю: любящая и скорбящая, — почему она, как запертая на ключ, — молчит и не может сказаться, и не может излиться ни в чем, а вечно льнет к чужому шаблону, к готовой фразе, к готовому стилю и как маской скрывает свое настоящее лицо? Ведь это же пытка Гуинплена[221], ведь это же мука, с которой не сравнится ничто. Все в человеке волнуется, все дрожит и кривится судорогой, он корчится от злобы и гнева — но выразить это бессилен: мы глядим на него равнодушно и вместо лица человеческого видим застывшую скучную маску. Он не лжет, но хуже: его правда нам кажется ложью. И излейся он весь перед нами слезами, разорви он, кажется, свою грудь и покажи нам воочию свое правдивое сердце — мы бы и тогда сказали: неправда!
Ибо есть множество правд: есть финская, немецкая, русская, еврейская правда, — и искусство каждого народа блюдет и выявляет свою. Подите в картинные галереи: правда Рубенса будет ложь для Боттичелли, и правда Гальса будет ложь для Мурильо. Искусства вненародного нет, ибо нет вненародной правды. Каждая черточка, каждая буквочка, каждый самый маленький штришочек у великих художников национальны. Потому-то нам, например, так чужд Данте, а итальянцам так чужд Толстой, что правда в искусстве не одна, а сколько народов, столько правд.
Еврейский же интеллигент, оторвавшийся от своего родного народа, отрывается и от единственно доступной ему правды; приставая к народу русскому, к русскому языку и к русскому искусству, он новой правды не обретает; он усваивает, но не творит; он копирует, но не рождает. Это страшная трагедия еврейского интеллигента, очутившегося в духовном плену у пушкинской, у толстовской, у чеховской культуры, — и пусть он будет гениален, как десять Шекспиров, он не создаст ничего, он беспомощен и бессилен, потому что русский пафос не его пафос, русская мелодия не его мелодия, русская эстетика не его эстетика. Он стоит в этом мире как глухонемой и может лишь немногими бедными знаками выражать свою — пускай богатейшую душу…
Впрочем, я уже говорил об этом весьма подробно и здесь только в качестве примера привел г. Юшкевича.
Другие примеры в следующий раз.
<Без подписи>. Собрание Еврейского литературного общества в Петербурге[222]
Еврейское литературное общество, имея право по уставу открывать свои отделы во всех городах России, решило на первое время ограничить свою деятельность одним только Петербургом. 23 октября, через неделю после учредительного собрания, Общество устроило первое свое очередное собрание, на которое пришло более 200 членов.
Первым выступил гостящий теперь в Петербурге Шолом Аш. Он прочел несколько глав из наилучшего своего произведения «Городок», а также и отрывок из не напечатанного еще рассказа «Карнавал в Риме». К сожалению, чтение не произвело желательного эффекта. Шолом Аш — довольно плохой чтец, особенно в тех местах, где требуется живое воспроизведение типов и умение вести диалоги. Поэтому публика, очень сочувственно встретившая писателя, довольно плохо слушала его.
Центральной частью собрания был доклад г. С. Рапопорта (Ан-ского)[223] на тему «Равноправность языков в еврейской литературе». Еще на учредительном собрании Общества был затронут вопрос о языках, и доклад на эту тему пришелся как нельзя более кстати.
Положения доклада в общих чертах сводились к следующему.
Еврейская литература переживает теперь тяжелый кризис. Нет у нас ни газет, ни журналов, ни книг. Писатели почти совсем перестали писать, читатель почти исчез. Нельзя объяснить этого общими причинами, вроде ненормального состояния еврейской жизни вообще, ибо 10 лет тому назад наша жизнь не была нормальнее, а все-таки литература расцветала. Нельзя также винить в этом и т. н. «ассимиляцию». Ассимиляции, как чего-то сознательного, преднамеренного, у нас никогда не было. Интеллигенция от нас уходила и уходит потому, что наши культурные ценности очень бедны и не могут удовлетворить ее потребностей. В этой-то бедности нашей культуры и, главное, в ее раздробленности и следует искать причину создавшегося теперь положения. Отсюда ясен и выход из него: это — развитие наших культурных ценностей, объединение тех сил, которые способствуют их созиданию.