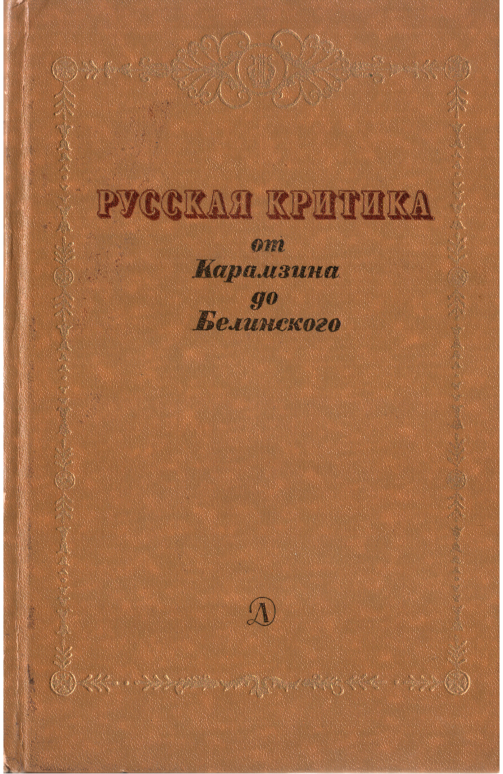Что нас не жгут на площади, а царь Своим жезлом не подгребает углей? Уверены ль мы в бедной жизни нашей: Нас каждый день опала ожидает, Тюрьма, Сибирь, клобук иль кандалы, А там в глуши голодна смерть иль петли? . . . . . . . . . . . . . . Легко ль, скажи: мы дома, как Литвой, Осаждены неверными рабами: Все языки, готовые продать, Правительством подкупленные воры. Зависим мы от первого холопа, Которого захочем наказать.
И между тем это было царствование того же самого Бориса, который, при торжественном вступлении своем на престол, клялся разделить свою рубашку с подданными!.. Откуда ж произошла столь ужасная перемена? История представляет только действия, совершающиеся на авансцене жизни: поэзия может приподнимать кулисы и указывать за ними сокровенные пружины, коими движется зрелище. Я не говорю, чтобы Пушкин угадал истинную тайну души Борисовой и надлежащим образом понял всю чудесную игру страстей ее. Сердце Годунова требует еще глубокого испытания. Был ли это вертеп злодейства, совлекшего с себя личину при сознании своего всемогущества... или, может быть, пучина властолюбия, неразборчивого на средства для сокрушения встречаемых им препятствий?.. Пушкин принял средину между сими двумя крайностями, на которой держал себя и Карамзин,— хотя, может быть, сия средина не есть еще золотая. На его глаза, душа Бориса была не что иное, как отшельническая пустынь виновной совести, борющейся с призраками преступления, кои всюду ее преследуют: и с этой точки зрения, коей верности я совсем защищать не намерен, лицо Годунова, если не совершенно отделано, то, по крайней мере, резко очеркнуто в сценах Пушкина. Я недоволен первою из них, где Борис является с патриархом и боярами. В ней лицо его не имеет никакой выразительности: и — слишком благоговейное воззвание к тени Феодора, которое могло быть только следствием необходимого этикетного притворства:
О праведник, о мой отец державный,—
не будучи пояснено выражением истинных чувствований Бориса, бросает на него мрачную тень низкого лицемерия. Настоящий его характер, по образу воззрения поэта, обнаруживается во всей наготе вторым монологом, после тайного совещания с кудесниками. Здесь он вынуждается приподнять сам пред собой завесу, под которою таится червь, неусыпно изъедающий его душу:
Я думал свой народ В довольствии во славе успокоить, Щедротами любовь его снискать — Но отложил пустое попеченье; Живая власть для черни ненавистна. Они любить умеют только мертвых, Безумны мы, когда народный плеск, Иль ярый вопль тревожит сердце наше! Ах, чувствую: ничто не может нас Среди мирских печалей успокоить; Ничто, ничто... едина разве совесть — Но если в ней единое пятно, Единое случайно завелося; Тогда беда: как язвой моровой Душа сгорит, нальется сердце ядом, Как молотком стучит в ушах упрек, И все тошнит, и голова кружится, И мальчики кровавые в глазах...
Эта последняя черта, конечно, слишком жестка: я бы посоветовал ее оставить. Но — вот пламя, пожирающее душу Бориса, которое отливалось багровым заревом на все Московское царство!.. Теперь далее!.. Насильственное спокойствие царского величия подавляет внутренний мятеж подозрений, взволновавшихся в сердце Бориса при слухах о новой смуте. Имя Димитрия, подобно электрической искре, мгновенно взрывает их вулканическое скопление.
Димитрия!.. как? этого младенца? Димитрия!.. Царевич, удались. Димитрия!. . . . . . ...Взять меры сей же час; Чтоб от Литвы Россия оградилась Заставами; чтоб ни одна душа Не перешла за эту грань; чтоб заяц Не прибежал из Польши к нам; чтоб ворон Не прилетел из Кракова! Ступай!..
Вслед за сим, я опять не хотел бы встретить насильственного смеха, коим поэт заставляет Бориса удушить свое смятение в собственных глазах и в глазах Шуйского: смех этот слишком искусствен; и притом мы слыхали его в «Коварстве и любви» Шиллера*. Но передышка его, после убийственного описания смерти Димитрия, которое он осужден был выслушать, имеет опять истинное достоинство:
Ух, тяжело!.. дай дух переведу — Я чувствовал: вся кровь моя в лице Мне кинулась и тяжко опускалась... Так вот зачем тринадцать лет мне сряду Все снилося убитое дитя! Да! да — вот что! теперь я понимаю. . . . . . . . . . . . . . Ох, тяжела ты, шапка Мономаха!..
Должно сознаться, что Борис, под карамзинским углом зрения, никогда еще не являлся в столь верном и ярком очерке. Посмотри даже на мелкие черты: они иногда одною блесткою освещают целые ущелия души его! Не обнажает ли пред тобой всю прелесть простосердечия ума великого— богатого