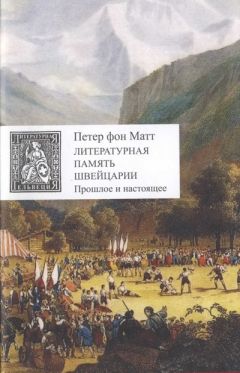А как же моменты потрясения, которые порой случаются при чтении книг Вальзера? Моменты, памятные всем нам, когда наши чувства, наши познавательные способности захвачены происходящим и одновременно как бы разворошены? Такие моменты бывают, видит Бог, но они не учат нас правильной жизни или «любезному» (artige) поведению, если воспользоваться излюбленным расплывчатым словечком Вальзера. Они всегда говорят только о неистовом счастье и о помрачении мира, о непредсказуемых переходах одного из этих состояний в другое — в пространстве, пребывающем под знаком отвержения цели, под которым стоит и сам Роберт Вальзер, как Гёльдерлин — под «божьими грозами»[226].
ГНИЛЬ, СПРЯТАННАЯ ЗА ФАСАДАМИ. О Фридрихе Глаузере
Вальдау — большая психиатрическая клиника в Берне. Роберт Вальзер жил там, написал там свои последние тексты. В 1933 году его перевели в другую клинику, в Восточной Швейцарии, где он уже не прикасался к карандашам. Туда же, в Вальдау (через несколько месяцев после отбытия Вальзера), поступает Фридрих Глаузер, тридцативосьмилетний пациент с тяжелой морфинической зависимостью, — пугливо-дружелюбный человек, имеющий за плечами невероятный жизненный опыт. Едва появившись в больнице, он начинает писать роман: криминальный роман, который по замыслу автора и должен быть не более чем хорошим криминальным романом, продающимся в вокзальных киосках — чем дешевле, тем лучше.
Эта книга, «Вахмистр Штуцер», сегодня принадлежит к немногим фиксированным точкам-ориентирам, необходимым для обмера литературного ландшафта Швейцарии. Такое утверждение может удивить кое-кого из читателей, помнящих знаменитые имена, благодаря которым немецкоязычная Швейцария заняла подобающее ей место в послевоенной литературе. Допустимо ли причислять Фридриха Глаузера к писателям такого ранга?.. Но ведь надо учитывать, что обладатели этих знаменитых имен, Фриш и Дюрренматт, оказали двойственное влияние на литературный процесс. С одной стороны, они способствовали значительному возрастанию авторитета своих современников, швейцарских писателей, которые двинулись по их следам, — окружив этих писателей своего рода групповым ореолом; с другой стороны, они невольно произвели и противоположный эффект: писатели прежних поколений вообще исчезли из виду. Швейцарская литература стала что-то представлять собой — на международной арене — лишь после 1945 года: долгое время это считалось как бы само собой разумеющимся, даже в самой Швейцарии. Только вальзеровский ренессанс — один из самых примечательных и достойных осмысления спектаклей на литературной сцене поздних семидесятых годов — сломал этот стереотип мышления. Теперь можно было спокойно оглянуться назад, и тогда, наряду с Вальзером, из тени выступил скромный, но отнюдь не малозначимый автор — Фридрих Глаузер.
Ему удалось то, что удается очень немногим писателям и что никто не может спланировать заранее: он создал фигуру, которая освободилась от своей рамки, то есть от книжной обложки, и зажила самостоятельной жизнью. Сегодня эта фигура — полицейский вахмистр Штуцер — знакома и многим людям, которые никогда не читали Фридриха Глаузера. Конечно, тут сыграли свою роль некоторые побочные обстоятельства: возраставшая в тридцатые годы политическая и культурная изоляция Швейцарии, ранняя экранизация романа эмигрировавшим из нашей страны Леопольдом Линдбергом[227], популярность актера, который сыграл главную роль[228]. И все-таки основой для всего этого явилось достижение Глаузера: произведение робкого, истерзанного внешними бедствиями и внутренними комплексами человека, который пытался спастись (от своей морфинической зависимости, от ощущения потерянности) в психиатрических клиниках, но каждый раз всё та же гложущая тоска заставляла его бежать оттуда. Вот и в тот раз, едва закончив «Вахмистра Штуцера», он ранним пасмурным утром бежал из бернской клиники.
Как из трудного жизненного опыта родилась такая романная фигура, это можно объяснить лишь редкостным, часто обсуждавшимся, но так полностью и не проясненным химическим процессом. Большинство писателей — когда создают центральные для них образы — оперируют проекциями собственной личности, которые они в большей или меньшей степени смещают по социальной оси, или — контрастными проекциями из арсенала своих желаний и страхов. С этим «или — или» в качестве рабочего инструментария, если относиться к нему критически, интерпретатор может добиться многого. Такой инструментарий если и не поможет добраться до сути вещей, то обеспечит относительную прозрачность текста. Однако в случае Глаузера/Штудера это самое «или — или» оказывается странно неупорядоченным. С одной стороны, здесь отвергнутый и гонимый человек, вечный ребенок, обладающий смекалкой бездомного скулящего пса, создает для себя фигуру сильного и доброго покровителя; с другой же стороны, все, что поднимает «Штуцера» над уровнем расхожих штампов (а только это, в долгосрочной перспективе, и имеет значение), проистекает из глубоко запрятанной слабости вахмистра: из беспомощности, которая у него загадочным образом сочетается с прозрениями.
Ощущение незащищенности наваливается на полицейского вахмистра периодически и неожиданно, как внезапные удары, в моменты, когда он занят решительными действиями, — или давит ему на плечи, как тяжкий груз, постепенно сгибая этого крепкого человека. И именно благодаря изображению таких внутренних состояний, а также благодаря той функции, которую оно выполняет в романе, образ Штуцера становится литературным достижением. В таких эпизодах этот образ не только отходит от расхожей модели ворчливо-добродушного следователя, но вовлекает читателя в дебри, какие мы не найдем ни в обычных, ни в элитарных разновидностях криминального романа.
Разумеется, мотив временной слабости сыщика очень хорошо известен любителям детективного жанра. Это особый топос: самое позднее со времени появления Филипа Марлоу[229], который коротает часы очередной депрессии, играя сам с собой в шахматы. Однако у Штудера, сыщика из Берна, который должен прояснить обстоятельства заурядного убийства в обычной швейцарской деревушке, приступы слабости нельзя истолковать как периоды мучительного расслабления между фазами решительных действий или интеллектуальной работы; эти состояния скорее носят медитативный, нездешний характер — напоминают транс. В романе они не анализируются, а только описываются; и все же такие сцены придают повествованию совершенно особый настрой.
Штудер должен найти правду. Не просто правду об одном преступлении, но нечто большее: бесшумную, опасную, запретную правду об обществе в целом, о задающих в нем тон элитных кругах солидной бюргерской Швейцарии с ее солидными институтами. Сыщик и сам принадлежит к этим кругам, он не аутсайдер, он только обладает тем даром (или, скорее, изъяном), что чует спрятанную за фасадами гниль. За это он когда-то уже поплатился — видами на блестящую карьеру. Его понизили в должности, потому что он раскрыл банковскую аферу, в которой были замешаны швейцарские политики, и не послушался, когда сверху ему намекнули, что надо прекратить расследование. После пришлось начинать службу сначала, с самого низу, но он по-прежнему действовал солидно и добросовестно.
Однако всякий раз, когда вахмистр Штудер проникает в сферу преступления, в сферу сокрытых пороков своего мира, у него происходит помрачение сознания, как под влиянием наркотиков. У него повышается температура, он в самом деле заболевает. И его, в таком состоянии, что-то очень медленно гонит по направлению к правде, как если бы он был куском дерева, плавающим в стоячих водах. Штудер владеет всеми методами криминологии и использует их на практике (ведь когда-то он учился в Париже и Вене, у лучших специалистов, он и сейчас поддерживает контакт с тамошними коллегами), но для раскрытия преступления это не имеет решающего значения. Решающее случается всегда во время его приступов лихорадки, смешанной с грезами, когда им овладевает настрой фаталистической пассивности, который на самом деле — хотя Штудер, похоже, этого не знает — представляет собой какую-то иную форму мышления.
Глаузер и сам был подвержен таким состояниям, из-за чего порой подвергался смертельной опасности. К какому бы отрезку его жизни ни присмотреться, видно, что человек этот находится на границе, за которой простирается совершенно иное. Юношей он начал изучать химию в Цюрихе, но после первого семестра его на занятиях не видели; потом внезапно он выныривает на сцене «Кабаре Вольтер», колыбели дадаистов (еще задолго до того, как оно прославилось): ударяет в барабан и играет смерть в пьесе Кокошки «Сфинкс и соломенное чучело»[230]. Потом какое-то время он живет у Хуго Балля[231] на горном пастбище в Тессине; зависимость от морфия заставляет его вступить в контакт с криминальным миром; над ним учреждают опеку, жизнь его проходит между больницами, психиатрическими клиниками и тюрьмами; собственный отец помогает ему — какое варварство! — устроиться в Иностранный легион.