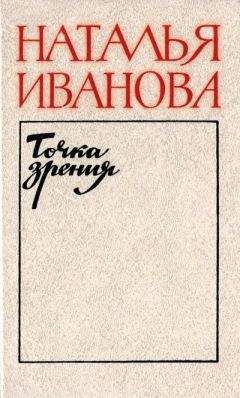В исследовании того, что есть добро, Маканин уходит от «линейки», применяя теперь другие инструменты. Он доводит, казалось бы, обычные бытовые ситуации, пользуясь увеличительным стеклом, до абсурдных, гротескных, даже фантастических. Бытовая фантастика прочно берется им, сугубым вроде бы реалистом, в обиход. Спокойное и уравновешенное анализирование, анатомирование жизни теперь заменяется лабораторным экспериментом, тщательно прослеженным. «А если вдруг…» — вот (в схеме) сюжетный толчок для стабильной ситуации, заявленной первоначально. Повествование строится по законам анекдота (жанр анекдота, на мой взгляд, есть зерно, концентрация бытовой притчи). Маканин, ощущая возможности притчеобразного художественного текста, давшего серьезные плоды в литературе семидесятых годов, дает свой, городской вариант притчи: анекдот. Призываю не относиться к анекдоту пренебрежительно. Вспомним, что именно из анекдотов возникли знаменитые «Повести Белкина», «Нос», «Шинель», «Коляска», «Ревизор», «Мертвые души», «Село Степанчиково». Плодотворно сочетался анекдот с фантастикой, откровенно, казалось бы, «низкая» историйка — с грандиозной и страшной социальной символикой (творчество Салтыкова-Щедрина). Анекдот — в прозе — есть прежде всего невероятное бытовое происшествие, раскрывающее коренную социально-философскую проблематику. Кроме того, анекдот — городской фольклор, и это тоже привлекает В. Маканина. Анекдот — совсем не обязательно что-то «смешное». Может быть, драма, рассказанная эдак с ухмылкой. И от этой ухмылки — еще более драматичная.
Маканина (рассказ «Пустынное место»), кажется, раздражает само это слово — притча. Притчу он отдает, казалось бы, на откуп — другим. То, что у него (настаивает автор!) — «история, но никак не притча!» А притча — это вот что: «…три судьбы. И как неменяющийся фон — пустынный берег полуострова, собирание водорослей и йодистый запах. Вязкий песок под ногами. И море… Важно пустынное место и некая расстановка сил и чувств в вакуумной этой пустоте. Побыть очищенным — для этого и пишут притчи».
(Не теряя основной мысли, позволю себе маленькое отступление. Чрезвычайно характерно для Маканина то, что при всей снисходительной стабильности своей «тепло-усмешечной» интонации он постоянно держит в своем сознании прозу окружающую, прозу, омывающую его прозу, — он держит в сознании литературный процесс, где явно, а где скрыто полемизируя, споря — как в приведенном рассказе он спорит с манерой, с методом, с самим взглядом на мир А. Кима, выраженным им в повести «Голубой остров». Маканин с живым интересом вступает во внутренние, подспудные литературные дискуссии.)
И еще про притчу: В. Маканин, моделируя кимовскую притчу как своего рода escape, иронично замечает: «Очищения в побеге нет — есть только тяга к пустынному месту, и ни граммом более. Тяга, которая исчерпывается самим же побегом, исчерпывается сама собой, как ветрянка или свинка».
Но, сам того не замечая, Маканин часто прослаивает притчами свою прозу. Только притча у него — это вовсе не побег, а скорее «конфузная ситуация» (его собственное определение), при том что высшая правда (в тексте — «бог») отшучивается, устраняется, уходит в сторону, в свое «пустынное место». Так отшучивается бог в «Ключареве и Алимушкине», в романе «Портрет и вокруг». Это однажды даже вызвало бурную реакцию Л. Аннинского: что за панибратство, неуместная фамильярность, замечал критик. Не заметил он другого: бог у Маканина — тоже анекдотический, из бытовой притчи. Этакий развеселый, шутливый старичок. Из «историй», рассказанных Маканиным, он удаляется в самом начале. Это мир, оставленный Богом.
Алимушкин в конце концов умирает, разбитый параличом, а все верят, что он улетел на Мадагаскар. Так — проще. Все довольны. Все смеются. Потом в рассказе стало тихо… Тихо-тихо. Прозаик опускает занавес. Никто ведь не совершил дурного поступка. Наоборот — все спешили делать добро. И что из этого вышло? Полное разрушение романтического, идеального стереотипа «добра», помощи, братства.
В этой бытовой притче-анекдоте В. Маканина привлекают прежде всего парадоксальность, несводимость к близко лежащей «морали», хотя вроде бы мораль и должна быть заложена в притче. «Мораль» как нравственный обобщающий итог, на поверхностный взгляд, вообще в последних сочинениях Маканина отсутствует. Или — «лежит» слишком близко, как-то не очень хочется ее подбирать.
«Обманная мораль».
В самом деле, можно ли посчитать итогом «Отдушины» то, что: 1) заводить любовниц нехорошо; 2) выторговывать за них образование для своих детей — еще хуже? Можно ли увидеть нравственный итог «Человека свиты» в том, что быть «шестеркой», подбиралой крох с «секретарского» стола — некрасиво? Можно ли определить моральный итог «Предтечи» как осуждение всякого псевдодуховного «знахарства», полудикой полуобразованности, тяготения современных интеллектуалов к якобы запредельности? Можно, конечно. Только такой итог будет чисто внешним и крайне далеким от задач, которые ставит Маканин в своей прозе.
Каковы они?
«Лучшие побуждения» выглядят, мягко говоря, опасными: тут и родные и близкие, чья любовь и внимание могут просто-таки задушить человека; тут и любящая жена, от которой хочется бежать на край света; тут и заботливые сослуживцы, своим состраданием и участием доводящие до исступления. Желание блага, вернее, желание облагодетельствовать постоянно терпит крах, для каждого существа, уверяет прозаик, предназначено только свое, уникальное, индивидуально понятое «добро». От любви — как высшего выражения добра — герои Маканина бегут с такой же силой, с какой раньше (например, в «Прямой линии») они ее жаждали. Целая такая картинка есть в «Голосах» под кодовым названием «любящие нас»: «…душат своими руками, не передоверяя этот труд никому; руки их любящие и теплые». Отсюда и постоянный взгляд в другую сторону — в жестокость. Изучение жестокости. Например, холостят лошадей («Портрет и вокруг»). Тоже такая маленькая притча в романе, небольшая такая метафора. Или — как умирает Колька Мистер, двенадцатилетний подросток. Очень подробно. С деталями. В спокойной интонации. Не так уж и жизнерадостно в мире, сдержанно говорит нам автор. И никакая мораль не поможет. Она здесь просто ни при чем: Колька все равно умрет, а коня все равно выхолостят. Без надрыва и без истерики, но без любования жестокостью. Однако от всего этого веет безнадежностью. Пишет о жестокости Маканин так, как будто он уже вернул тот самый знаменитый билет, что почтительнейше возвращает Иван Карамазов. Ему это все вроде бы не нравится. Но противопоставить пока нечего, ибо от любви он тоже отказался.
Где же ищет Маканин дорогу?
Выход какой из этой тяжелой и для самого прозаика ситуации? В чем спасение от равнодушия? Ведь добро-то все равно едино, как его ни расчленяй!
Мне кажется, прозаик почувствовал одну из своих слабостей: конструирование. В принципе он чаще всего идет от уже продуманного, от готовой, сложившейся в его сознании системы героев, сюжета, развязки. Очень сильно момент конструирования чувствовался и в романе «Портрет и вокруг». Маканин старается преодолеть конструирование примерно так же, как строители строят дома на жестком цельнометаллическом стержне: у него бытовые подробности, детали той городской жизни, которой мы все живем, так густо и искусно «навешаны», что самой конструкции непосвященному и не видно. Но, незаметная простодушному глазу, она тем не менее настойчиво и утомительно лезет в глаза собрату-архитектору. То же самое происходило и с образом человека — конструирование из определенных черт. В том же «Портрете…» Маканин иногда передоверял свои наблюдения и размышления своему «коллеге», прозаику Игорю Петровичу (упаси боже их отождествлять!). Но сам же Игорь Петрович становился в тупик: так каков же на самом деле этот Старохатов, деятельность и грешки которого он выслеживает, как сыщик? Метод раскладывания по полочкам в итоге мало что дает. Скорее — озадачивает.
Такова и художественная задача. В «Голосах» В. Маканин пишет (в том числе анализируя и свои собственные сочинения): «…вдруг понимаешь, что не человек ходит по твоей повести, а расхаживает там пять-шесть его черточек, не более того. Именно так: одно из первых отрезвлений пишущего и одна из первых его утрат это горестное сознание, что живой в нашем деле не участвует… Возникает ощущение… что тебе по силам, может быть, изображение быта, мыслей, дней и ночей людских, черточек и штрихов характера, но сами-то живые в стороне…»
Самокритичное и точное наблюдение.
Маканин нащупал только один выход — в живом человеке. Уйти от конструкции. Уйти от антитез. Антитеза «сильный — слабый» так же уязвима, как «положительный — отрицательный». Бегом от добра — тоже не спасешься. Маканин взял да и ударил топором по конструкции. Получились «Голоса», с разбитой композицией, с отсутствием той самой «железной логики», по которой, например, Семен Разин обязательно и непременно оказывался у того самого корыта. По которой Игорь Петрович обязательно в конце концов таскал мебель и сдавался, писал проходные и бездарные повести, становился Старохатовым.