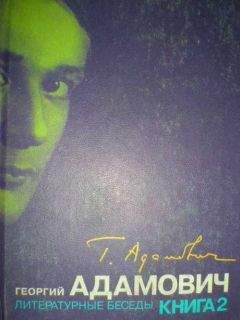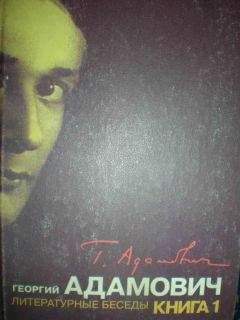Повторяю, мне кажется, в этом главная прелесть романа. Но и если быть к этой стороне ее малочувствительным, надо было бы признать в нем большие достоинства: вкус, простоту, которую только самый неопытный глаз примет за небрежность, свободу, точность… Можно было бы указать, что такие лукаво-беспечные, наивно-жестокие, невинно-порочные подростки еще не знакомы нашей литературе, и что это новая в ней тема, достойная пристального внимания…
Я не останавливаюсь на всем этом лишь потому, что, по-моему, в «Ангеле смерти» есть особенности более редкие и острее радующие.
3.В отзывах о молодых писателях часто встречаются такие замечания: «если он будет над собой работать, то можно многого ждать… «трудно отрицать его дарование, однако, если он не свернет с опасной дороги…» — и так далее. Это совет и предостережение. Критики расточают их очень охотно: если оказывается, что молодое дарование расцвело и прославилось, — критик это якобы предвидел; если оно зачахло, — критик ведь предостерегал…
Поэтому приятнее было бы обойтись без предостережений. Но вот я перелистываю «Вторую книгу стихов» Довида Кнута, человека, несомненно, одаренного, — и на каждой странице ее мне хочется поэта увещевать. Какая «ложная дорога» у Кнута! Как настоятельна для него необходимость над собой работать! Поймет ли он это? Или предпочтет почить на скоровянущих лаврах, удовлетвориться двумя-тремя уклончиво хвалебными рецензиями, продержаться несколько лет в рядах «подающих надежды» — и наконец впасть в полное, безвозвратное небытие?
В поэзии Кнута принято отмечать буйный темперамент, задор и молодую силу. Его часто противопоставляют меланхоликам и неврастеникам, будто бы заполонившим нашу литературу. С удовольствием верю, что лично Кнут действительно таков, каким его представляют. Читая его стихи, я даже убеждаюсь в этом с несомненностью. Бурные чувства, страстное стремление жить и наслаждаться… Об этом Кнут, действительно, пишет, но пишет он без всякого одушевления. И потому Кнут не убеждает. Можно пояснить примером из живописи: на одной картине изображено сияющее небо, солнце и какие-нибудь вакхические пляски, а на другой блюдо с яблоками или рыбой. И вот оказывается, что вторая картина полна глубокой внутренней жизни, а в первой — мертвенность. Стихи Кнута похожи порой на передвижническую вакханалию.
Кнут довольно прихотлив в выборе слов. Но это изысканность полуслепого человека, который не берет того, что у него под рукой, а дальше выбирает наугад.
Не буду голословным. Приведу лучше стихотворение Кнута, где он утверждает, что «не умрет» и в страшный час «оттолкнет руками крышку гроба».
…Я оттолкну и крикну: не хочу!
Мне надо этой радости незрячей!
Мне с милою гулять плечом к плечу!
Мне надо солнце словом обозначить!
Нет, в душный ящик вам не уложить
Отвергнувшего тлен, судьбу и сроки.
Я жить хочу, и буду жить, и жить,
И в пустоте копить пустые строки.
На первый взгляд все здесь очень энергично. Но присмотритесь: «с милою гулять плечом к плечу» — как неверно, неточно, будто солдаты; «солнце словом обозначить» — еще более вяло! А дальше – минуя «тлен, судьбу и сроки» – что это за бормотания «и жить, и жить!», наконец, что значит quasi-глубокомысленное заключение про пустоту и пустые строки?
И так почти все в книге.
Кнут и его защитники могут мне возразить: «формальный разбор». Не в чести у нас теперь формальный разбор, принято писать больше о душе, о сознании, о внутреннем голосе…
Отвечу на предполагаемое возражение: именно потому я и «придираюсь» к Кнуту формально, что душа, сознание или «внутренний голос» его, мне кажется, того стоят. Но что же делать, – поэзия есть не только тайнотворчество, но и ремесло. И плохой ремесленник в ней — плохой тайнослужитель. Это слишком элементарно и общеизвестно, чтобы подробнее об этом распространяться. Добавлю только, что успехи в «ремесле», конечно, идут параллельно с успехами в духовном развитии и что «голой техники», от всего отделенной, от всего обособленной не существует, — или же эта техника к настоящей поэзии никак не относится.
Пусть же забудет Кнут все, что узнал до сих пор, пусть постарается как бы во второй раз родиться, пусть оставит свои пышно-пустословные оды и дифирамбы, пусть во всем усомнится, пусть, наконец, «потеряет душу», — и тогда, может быть, ему удастся написать стихи, которые не только будут снисходительно одобрены в кругу друзей, – но и «пройдут веков завистливую даль». У него – одного из немногих — есть эта возможность. Но он еще далек от ее осуществления.
ИЗ НАШИХ АРХИВОВ
(CAVE)
Автобиография «Звена» *
*Примечание редакции. Печатая настоящий исторический документ, редакция сочла своим долгом предпринять ряд археологических изысканий и снабдить рукопись необходимыми научными комментариями, помещенными ниже в выносках, после текста документа.
Я родился в Пасси <1> 5 февраля 1923 года. Помню, был слабеньким, серьезным и не по летам развитым ребенком. Знакомые покачивали головами и говорили: «Не жилец на этом свете. Такой умный ребенок! Не шалит и все рассуждает о культурных проблемах».
Ставили мне в пример моего старшего брата «Дернуведа» <2>, у того чрезвычайно общительный характер: всем интересуется, увлекается политикой, имеет собственную платформу <3>, со всеми спорит. А я рос тихим и задумчивым. Брат каждый день выходит в свет, со всеми знаком, обо всем поговорить умеет; а я больше дома сижу: выхожу раз в неделю и то с неохотой.
Долго у меня не прорезывались зубы. Помню, меня лечил доктор Юниус <4> — известное светило. Впрыскивал мне какую-то политико-экономическую сыворотку. Но он был очень раздражительный, и сыворотка сворачивалась. Мама плакала, а папа ходил нервными шагами по кабинету.
Пригласили профессора Алданова <5>, ординатора больницы святой Елены. Он заявил: «Дурная интеллигентная наследственность. Morbus Academicus
Если не примете решительных мер, станет неизлечимым приват-доцентом».
Мое детство было счастливое, хотя у нас в доме не все было благополучно. Я многого не понимал и мучился. Раз я спросил маму: «Мама, почему у других детей по одному папе, а у меня — два?» Она побледнела и сказала: «Не надо спрашивать. Это — страшная тайна улицы Бюффо <6>. Подрастешь — узнаешь».
А я все видел, все.
Мой первый папа с белыми волосами и в пенсне всегда страшно занят, со мной почти никогда не играет. Он постоянно сидит в кабинете, первой комнате на улицу <7>, пишет обзоры и получает телеграммы <8>. Во внутренние апартаменты никогда, никогда не заходит. Там в двух комнатках живем мы со вторым папой <9>. Он очень строгий, но добрый: иногда показывает мне карикатуры.
Самая интересная в нашей квартире — последняя комнатка, во дворе. Это у нас вроде канцелярии. Там какой-то дядя <10> постоянно играет в шахматы и ни с кем не разговаривает. А другой все отщелкивает на счетах — и доллары и фунты <11>. Мама мне шепнула, что он играет на бирже, я не знаю, что это такое, но, наверное, это очень опасно. Когда вырасту, тоже буду играть в шахматы и в биржу.
Как теперь помню картинки, которые висят в этой комнате. Могу все описать. Вот, например: барышня с бутылью, зовут ее смешно: Piver, и у нее есть не только духи, но и мыло. Потом мальчик, важничающий своим непромокаемым кожаным пальто за 75 франков на байковой подкладке. Я ему немножко завидую.
А сколько надписей — посмотрите: «А. Золотницкий. Драгоценности, старинные вещи, русское искусство. Покупка, прием на комиссию». Вы подумайте, что за человек: русское искусство берет на комиссию! Или еще: большими буквами J. Роvolotzky, а под ним чуть поменьше: rue Bonaparte. В этом сочетании есть что-то царственное.
Или еще одну помню: Киевский портной д. Матлин. Трамваи: 5, 6, 7, 11, 14, 20, 25, 123. И мое детское воображение рисует себе картину: необозримая трамвайная сеть Парижа, и все трамваи бегут к центру, а в центре сидит он — портной Матлин из Киева.
Странно, какие мелочи запомнил!
По воскресеньям у папы собирались разные люди и долго обсуждали мое будущее. Приносили книги, бумаги, составляли проекты. Папа записывал карандашом, но он был один, а их много, и ему было трудно все записать. Тогда он решил выписать из Берлина дядю Мишу <12>. Он очень добрый и любит детей. На меня никогда не кричит, а всегда старается лаской. Водит меня в кинематограф и объясняет, что в кинематограф ходить не стоит. Он составляет мне расписание уроков и следит, чтобы учителя ходили аккуратно. Со времени его приезда мое воспитание стало более систематичным, немного по-английски. Я про него знаю одну тайну, только Вы, ради Бога, ему не говорите: он тайном пишет стихи — и, кажется, про любовь.