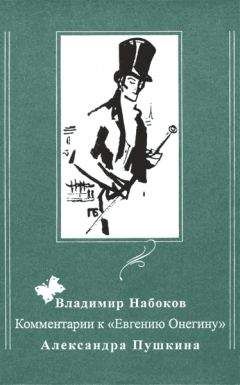Утверждают, что Скиталец в первый раз объявился в Гамбурге зимой 1542 г., и там его видел виттенбергский студент Пауль фон Айтцен (впоследствии архиепископ); потом Скиталец посещал Вену (1599), Любек (1601), Москву (1613) и т. д.[47]
В эпоху романтизма легенда утратила свою важность для христианской пропаганды и стала обобщенным символом неприкаянности и отчаяния байронического героя, спорящего с небом и адом, с богами и с человечеством.
Пушкинский «Вечный Жид» — напоминание о тех версиях легенды, которые часто встречаются в поэзии и романах того времени. «Прославленный еврейский странник» появляется в написанном четырехстопным размером вставном (после LXXXIV строфы Песни первой) фрагменте в «Чайльд-Гарольде» (см. мой коммент. к «ЕО», глава Первая, XXXVIII, 9). Еще один скиталец упомянут в «Мельмоте» (см. выше коммент. к XII, 9). В «Монахе» Льюиса, скверно изготовленном вареве, которое было опубликовано анонимно в 1796 г., среди персонажей второго плана есть таинственный незнакомец, у которого под бархатной лентой, скрывающей лоб, обнаруживается пылающий крест, и это не кто иной, как Вечный Жид. В русском переложении (указано Лернером в «Звеньях», т. 5 [1935], с. 72) это сочинение приписывалось очень популярной даме, «славной госпоже Радклиф», т. е. Анне Радклиф (1764–1823), чьи выдумки в готических переводах оказали столь сильное влияние на Достоевского, что призрак почтенной леди — благодаря его произведениям — все еще тревожит сон подростков в Европе, Америке и Австралии. Тема Вечного Жида была использована и самим Пушкиным в двадцативосьмистрочном, написанном ямбическими четырехстопниками фрагменте (сочинен, вероятно, в 1826 г.), начинающемся: «В еврейской хижине лампада / В одном углу бледна горит…», — который должен был (согласно записи от 19 фев. 1827 г. в дневнике Франтишека Малевского, напечатанном в томе LVIII «Литературного наследства», [1952], 266) стать началом поэмы «Вечный Жид»; обращался к этой теме также Жуковский в «Странствующем жиде» (первый отрывок датируется 1831 г., а скучная поэма — 1851–52 гг.); Кюхельбекер задумал своего замечательного «Агасвера» как эпическую поэму в 1832 г. (вступление написано 6 апр. 1832 г. в Свеаборгской крепости в Хельсинки), а затем там же, в Свеаборге приступил к драматической поэме, окончательно завершенной в Акше, в Сибири, 1840–1842, а напечатанной (не полностью) посмертно в «Русской старине», 1878, XXI, 404–462.
10 Корсар. Подразумевается «Корсар», поэма в трех песнях, написанная героическим стихом, — Байрон сочинил ее в конце декабря 1813 г. (напечатана в феврале 1814 г.). «Томим гордыней, недоступной им», Конрад, который «тайною отъединен от всех» (как сказано в переводе Пишо, 1822, он «одинок, суров и странен»), спасает из пламени Гюльнар, «перл гарема» (см. мои коммент. к главе Четвертой: XXXVII, 9).
В критическом наброске (1827 г.), выговаривая некоему В. Олину за его поэму «Корсер» (русская калька французского «corsaire»), написанную в подражание «Корсару», Пушкин замечает, что английские критики видели в герое этой поэмы не столько лицо, близкое автору, сколько Наполеона. Это наблюдение позаимствовано у Пишо: «Находили, хотя без должных оснований, что лорд Байрон желал запечатлеть в своем корсаре некоторые черты Наполеона» (примечание Шастопалли в «Œuvres complètes de Lord Byron», I [1820], 81).
11 таинственный Сбогар. Здесь Пушкин незаконно причисляет к откровениям британской музы небольшой французский роман в духе Шатобриана. Речь идет о «Жане Сбогаре» Шарля Нодье (1818 г., я пользовался парижским изданием 1879 г.). Героиня — Антония де Монтлион, родившаяся в Бретани; ей семнадцать лет (см. также мой коммент. к главе Второй, XXIII, 5–8), она хорошенькое, но болезненное создание, принужденное передвигаться, «опираясь на руку сестры»; физическое угасание пышущей здоровьем Юлии, которой предстоит превратиться в апатичную и раздражительную Валерию, почти завершилось в Антонии. Таинственный Жан Сбогар, этот белокурый уроженец Далмации, стоит во главе отряда разбойников, «братьев по служению общему благу», в своем роде коммунистов-дилетантов, — таких разбойников великое множество в окрестностях Триеста, в Истрии, на адриатическом побережье, где рядом с ними гондольеры и по сей день распевают строфы Тассо. Жан истинный демон в облике человеческом; мы знакомимся с ним, когда он, легко, с песней на устах перепрыгивает со скалы на скалу, при этом «издавая дикие вопли, горестные и пронзительные, точно вопль гиены, лишившейся своих детенышей», что случается не каждый день. На нем щегольская шляпа с белым пером и короткий плащ; лицо его дышит благородством, а руки нежны и белы. Есть эпизод, когда он не задумываясь облачается в наряд армянского монаха. Потом на приеме в Венеции он появится под именем Лотарио, не таким уж редким; ослепительно сверкают его изумрудные серьги, глаза источают потоки неземного света, на лбу — «глубокая складка, знак перенесенного горя». Он желает перераспределения богатств. Увы, я не отроковица, и тут Сбогар перестает тревожить мой сон.
Через два года после своего появления на свет роман Нодье удостоился критического разбора в «The London Magazine», II (1820), 262–268; поводом явился ужасный английский перевод, вышедший под заглавием «Джованни Сбогарро». «Пылкий, задыхающийся от страсти, подавляющий рассказ, однако в нем, кажется, и вправду бьется горячее чувство. Лихорадочный жар, нервозная чувствительность, приступы прострации, пароксизмы болезненного воображения… Книгу, однако, отличает мягкая воздушная мелодия, других примеров которой мы не можем привести, окидывая взором французскую словесность. Г-н Нодье воплощение того, что мы понимаем под современным романтическим стилем: его рассказ гармоничен, одухотворен, преследует высокие цели и их достигает… [Сбогар] так же преисполнен страсти, как немецкая баллада, и велеречив не менее, чем мадам де Сталь. Он то является на сцене, то внезапно ее покидает, как в волшебном фонаре или как в повести лорда Байрона, где герои тоже то возникают перед читателем, то пропадают с его глаз, и, если не придавать значения тому, что Сбогар образец целомудрия, можно было бы его счесть двойником Корсара».
14 безнадежный эгоизм. Меня сильно искушало желание использовать, переводя это место, фразу о «мрачном тщеславии», оброненную самим Байроном в письме-посвящении Муру, открывающем «Корсар».
Друзья мои, что жъ толку въ этомъ?
Быть можетъ, волею Небесъ,
Я перестану быть поэтомъ,
4 Въ меня вселится новый бѣсъ,
И, Фебовы презрѣвъ угрозы,
Унижусь до смиренной прозы:
Тогда романъ на старый ладъ
8 Займетъ веселый мой закатъ.
Не муки тайныя злодѣйства
Я грозно въ немъ изображу,
Но просто вамъ перескажу
12 Преданья Русскаго семейства,
Любви плѣнительные сны,
Да нравы нашей старины.
11 перескажу. Тот же глагол повторен в первой строке следующей строфы, где он соответствует своему другому значению — «расскажу еще раз».
14 старины. Заслуживает особого внимания частота этого понятия.
Перескажу простыя рѣчи
Отца иль дяди старика,
Дѣтей условленныя встрѣчи
4 У старыхъ липъ, у ручейка;
Несчастной ревности мученья,
Разлуку, слезы примиренья,
Поссорю вновь, и наконецъ
8 Я поведу ихъ подъ вѣнецъ...
Я вспомню рѣчи нѣги страстной,
Слова тоскующей любви,
Которыя въ минувши дни
12 У ногъ любовницы прекрасной
Мнѣ приходили на языкъ,
Отъ коихъ я теперь отвыкъ.
1, 9 …речи... речи. Между этими двумя «речами» есть легкое различие в оттенке: сначала дидактическом, затем лирическом.
9–10 неги… тоскующей (род. пад.). Об этих фигурах речи уже упоминалось в связи с чувствами Татьяны (глава Третья, VII, 10). Любопытно отметить, что «неги страстной» (XIV, 9) — отзвук «страсти нежной», науку которой постигает Онегин в главе Первой, VIII, 9. «Нега» повторяется в XV, 8, где это слово выражает сладостное ощущение, разнеженность, «tendresse» <«нежность»>.