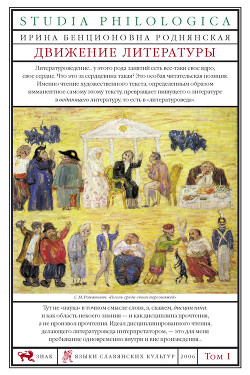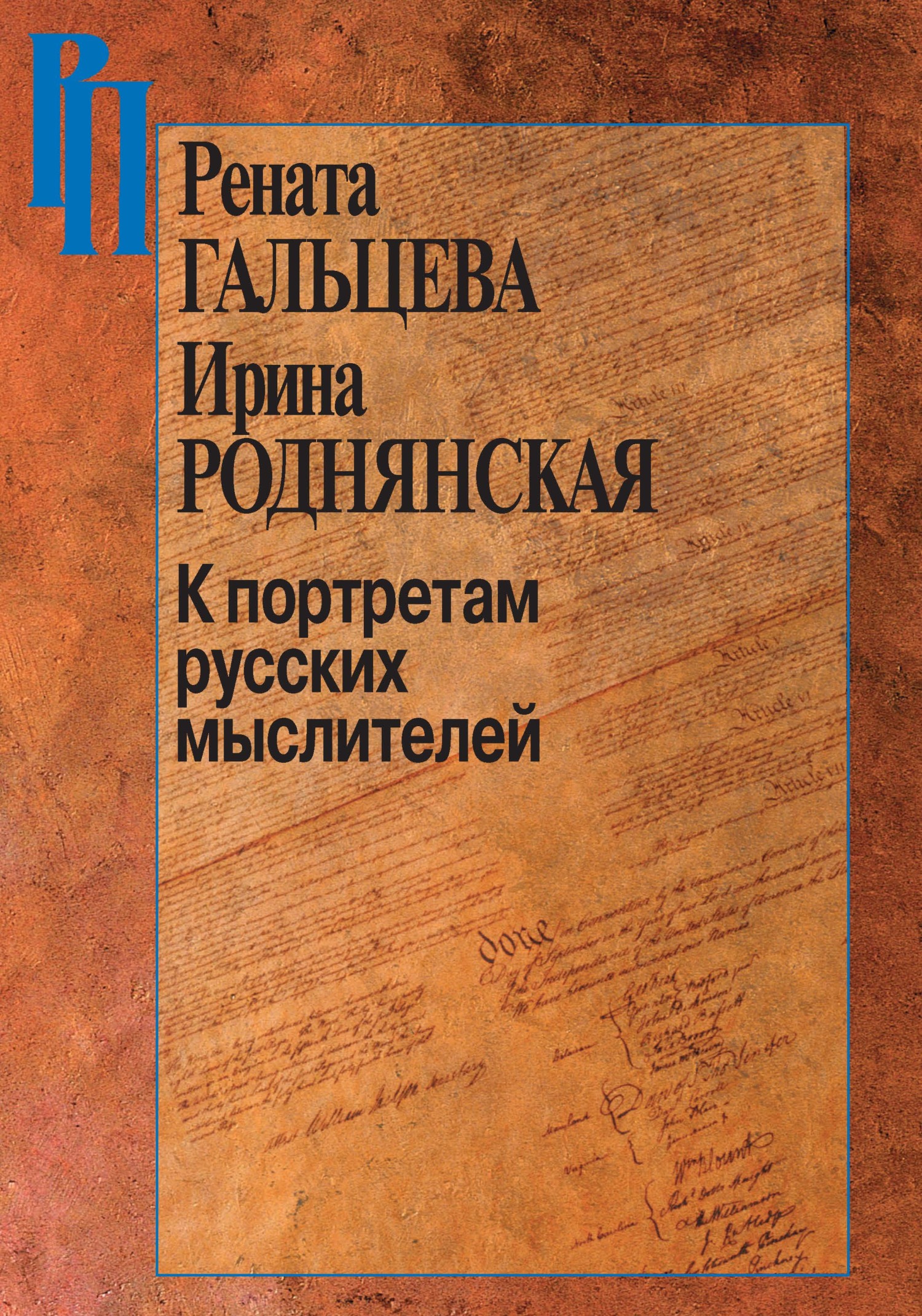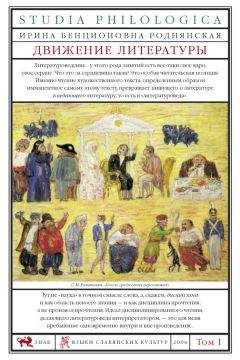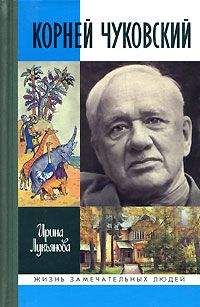Итак, Ходасевич – поэт, пытавшийся средствами классического искусства возобладать над цивилизацией своего времени (с которой резче всего столкнулся, попав на Запад), «Возобладать» (а не копировать с покорной готовностью поступь этой «новой реальности») – значит пойти на соударение с ней и последующий болевой шок; темную боль претворить в сколь угодно трагический, но внятный смысл, трансформировать шум в членораздельный звук, выводящий людей на дорогу. Если Ходасевич вполне этого так и не сумел, то как поэт стоял он, полагаю, на вполне неложном пути, который никем еще до победного конца не пройден.
Ходасевич не просто «высоко ценил» – он любовно чтил Блока и «пророческий», «младший» символизм, равнодушием к которому даже по прошествии лет попрекал уже покойного Гумилева. В его зрелых книгах, предшествующих «Европейской ночи», – в «Тяжелой лире» и «Путем зерна», – исповедуется тютчевское «двойное бытие» и символистское «двоемирие», различение земного и «надзвездного». Но где символисты искали вещих соответствий между тем и этим (искали их даже в «пошлости таинственной», как Блок «второго тома»), там Ходасевич ощутил несоответствие, разлад, подобный хаотическому отпечатку «двух совместившихся миров» на дважды использованной «фотографом-ротозеем» пленке («Соррентийские фотографии»).
В заботах каждого дня
Живу, а душа под спудом
Каким-то пламенным чудом
Живет помимо меня.
Душа у него «жжет и разъедает тело»; «дух, / Как зуб из-под припухших десен. / Прорежется – и сбросит прочь / Изношенную оболочку», и пока бедное тело «в аллеях Кронверкского сада / Бредет в ничтожестве своем», душа присоединяется к «огнекрылатым роям» стихийных духов. Восхождение, высвобождение и полет «Психеи светлой» – настойчивый, неизменный сюжет лирики Ходасевича, и если бы лирика эта не была чужда всяческой бутафории и иллюзионизма, можно было бы кстати припомнить, что в юности он мечтал учиться в балетной школе. Во всяком случае, он был прав, в трудных, гнущих долу обстоятельствах утверждая, что поэзии, творчества красоты – не существует без экстаза.
Но – и это противоречие стоит иных соответствий – для Ходасевича по-своему не менее драгоценна «проза в жизни и стихах» (как сказано в стихотворении о «рыжей речонке» Бренте, полемически написанном на мотив роскошной «Венецианской ночи» Ивана Козлова). Эта проза жизни не окутана у него никаким эстетическим флером и любима им совсем не как источник декадентской «красоты безобразного» или модернистской разоблачительной антикрасоты – когда звезды, например, лихо сравниваются с накожной сыпью. А любима она любовью-жалостью к «несчастным вещам» прохудившегося мира и, особенно в пору «Европейской ночи», – к несчастным, обокраденным людям с их глухим, анонимным существованием.
Быть может, лишь однажды – в первой своей «Балладе» 1921 года, описывающей акт творчества («Сижу, освещаемый сверху…») – Ходасевичу удается соединить оба конца цепи и увлечь за собой «в плавный, вращательный танец», в хоровод, ведомый лирником-Орфеем, нищую бытовую ветошь: «штукатурное небо» потолка, свисающую с него тусклую лампочку, стрекочущие карманные часы, «и стулья, и стол, и кровать». Каким-то чудом низкое, сведенное чуть ли не к инвентарной описи на дешевой распродаже, и предельно высокое, гимническое («… Стопами в подземное пламя, / В текучие звезды челом…») не убивают друг друга невыносимым совмещением, а братски сближаются. Поэт и сам изумлен:
И вижу большими глазами, —
Глазами, быть может, змеи,
Как пению дикому внемлют
Несчастные вещи мои, —
это «быть может», неуверенно слетевшее с губ, свидетельствует о подлинности экстатического опыта. В стихотворении обозначена цель Ходасевича в отношении мира «прозы» – приятие и одновременно преодоление.
В ряде случаев он этой цели не достигал, терпя поражение, по крайней мере, отчасти. Если как педагог и теоретик поэтического искусства он думал привить «классическую розу к советскому дичку» – то есть литературно не образованной, но полной любознательности петроградской аудитории, то как поэт он пытался, напротив, привить дичок неприбранной жизни к классической розе. И дичок не приживался, отсыхал, что заметно даже на простейшем уровне поэтической лексики, силящейся сопрячь музыку светил и «железный скрежет какофонических миров». Что там «электричество», «радио», «пирамидон» – «по-новому звенящие в старой строфике термины новой цивилизации» (как не без удивления пишет специалист по более «модерновому» оформлению этих «терминов» А. Вознесенский)! Сами по себе они «скрежета» еще не создают, и «многоочитые трамваи», заимствовавшие свой эпитет от традиционно многоочитых ангелов, воспринимаются не как шокирующий вызов, а как таинственный образ вечернего города. Но – «жидколягая комета» рядом со «звездной славой»? Но – дух, как зуб, вылезающий из припухлой десны? Но – «музикийский лад» в нарочитом соседстве со «зловонной треской»? Но – «грязь, разбрызганная шиной по чуждым сферам бытия», грязь, с которой сравнивается собственное «я» поэта? И все подобное произнесено с невозмутимым глубокомыслием, как в прошлом веке было разве что еще у одного большого поэта, навлекшего, впрочем, насмешки современников, – у Константина Случевского. Притом «нелепости» Случевского непроизвольны и потому поэтически интересны, эти же контрасты – демонстративны и риторичны, тут чисто словесный эффект от стыка разных «сфер бытия».
Ходасевич бьется между боязнью приукрасить и бессилием преобразить. Страдания, боль и цивилизованная одичалость межвременья, отграниченного двумя мировыми войнами, – слишком непосильный груз для крыльев его Психеи. А без такого груза она не чувствует себя вправе взлететь. Вторая, широко известная «Баллада» Ходасевича «Мне невозможно быть собой…» – документ этой неразрешимой борьбы. Мне кажется, ее понимают у нас не слишком верно – как произведение в первую голову обличительное, даже «богоборческое». «Какой гнев, сарказм, – пишет опять-таки Вознесенский, – в этих мцыриевых глухих ударах ямба… “Ременный бич я достаю… И ангелов наотмашь бью…” Какое бешенство энергии…» Еще шаг – и наш интерпретатор, кажется, предложит параллель: «Видишь, я нагибаюсь, из-за голенища достаю сапожный ножик. Крыластые прохвосты! Жмитесь в раю, Ерошьте перышки в испуганной тряске!» (Маяковский). Между тем, надрывный рассказ Ходасевича о встрече с безропотным и безруким инвалидом войны, все духовное утешение которого – посмеяться в кино над «идиотствами Шарло» (то есть Чарли Чаплина, воспринимаемого поэтом как образчик тогдашней массовой культуры), – рассказ этот начинается с признания: «Мне невозможно быть собой». Почему же невозможно? Потому что этот встречный становится между поэтом и его вдохновением. «Мне лиру ангел подает» – ту самую лиру, чья благодатная тяжесть, как помним, превращала обладателя клетушки с лампочкой в шестнадцать свечей в Орфея. То ангел творческого экстаза, поднимающего поэта над условиями существования, во всех прочих отношениях столь же «демократически»-нищенскими, что и у его безрукого собрата по городской толпе. И этого-то ангела, ангелов прогоняет «ременным бичом» одаряемый ими художник, – а взлетают они, словно (в памятный сердцу миг) венецианские голуби «от ног возлюбленной моей», оставаясь прекрасными и невинными, как и положено ангелам.
Тут типичный жест русского интеллигентного «неплательщика», отказывающегося от эстетических пиршеств и художественных воспарений, раз не удается усадить за свой стол «нищих духом». Но поэт чувствует, что импульсивный отказ его непрочен, что высшие творческие мгновения с их «подземным пламенем» и «текучими звездами» все равно останутся при нем, и он обращается к безрукому лишенцу с саркастической парафразой евангельской притчи о богаче и Лазаре: «Pardon, monsieur, когда в аду / За жизнь надменную мою / Я казнь достойную найду, / А вы с супругою в раю / спокойно будете витать… тогда с прохладнейших высот / Мне бросьте перышко одно: / Пускай снежинкой упадет / На грудь спаленную оно». Этот сарказм и глумление направлены прежде всего на самого себя, но краем, быть может, и на обездоленного, именно оттого, что ему нечем помочь (излом совести, подмеченный еще Достоевским). Наказание за судорожный выпад не заставляет себя ждать – оно в равнодушно-отстраненной ответной улыбке безрукого, неожиданно придающей ему достоинство и даже превосходство над мятущимся «неплательщиком»: «Стоит безрукий предо мной, / И улыбается слегка, / И удаляется с женой, / Не приподнявши котелка».