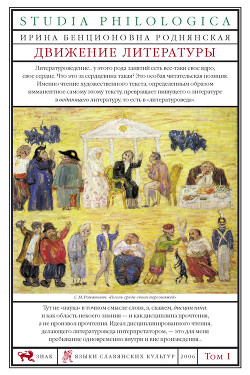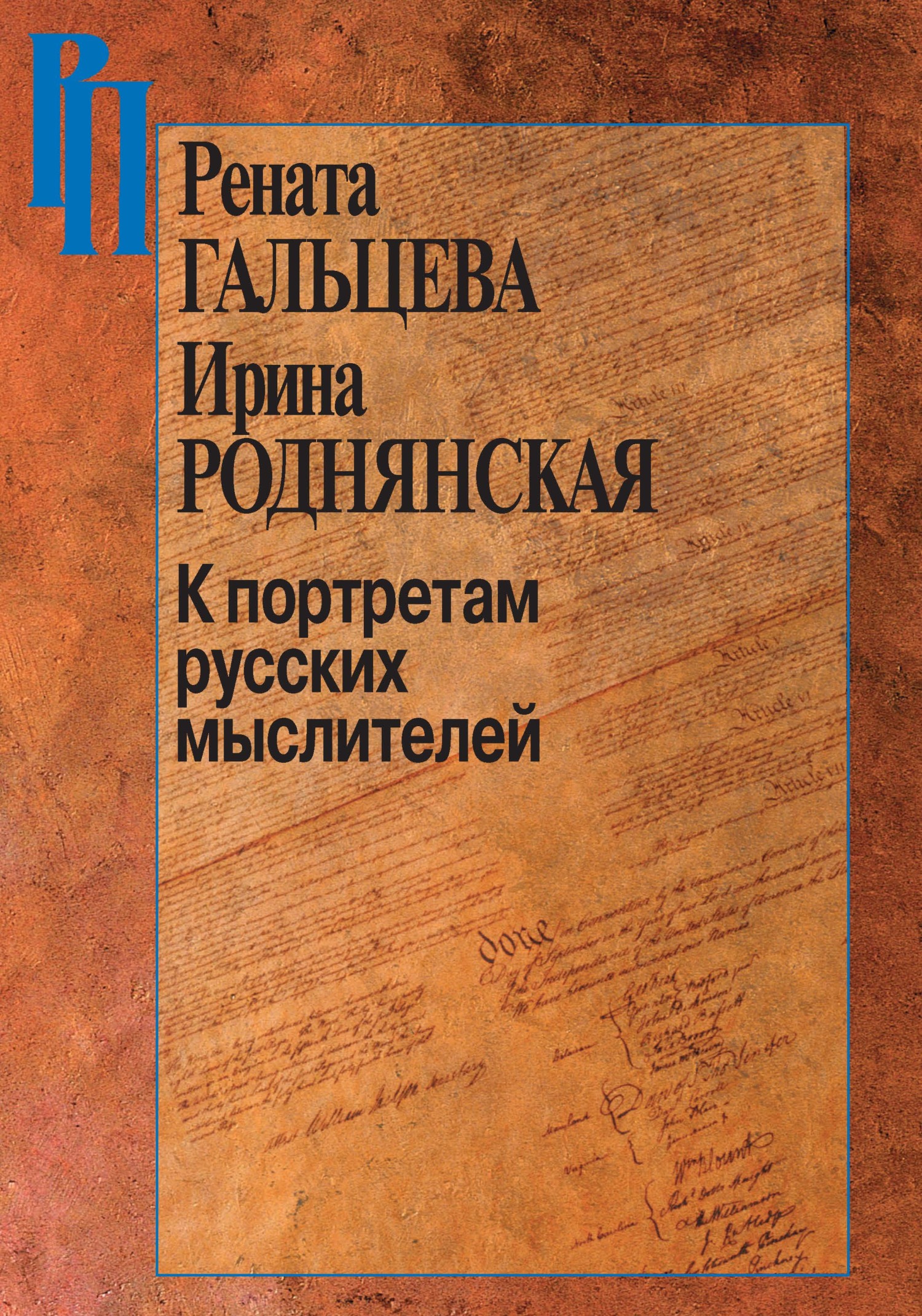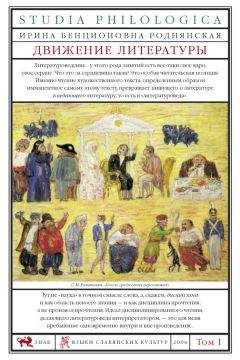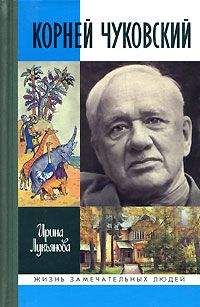Здесь уместно небольшое отступление, касающееся познавательного потенциала этих авангардистских методологий. Думается, аналитичность «нового искусства» сильно преувеличена. В десятых годах о Пикассо писали Н. А. Бердяев и С. Н. Булгаков – с долей мистического ужаса. Первый видел в кубизме Пикассо безжалостное аналитическое распластование плоти мира, ее дематериализацию и оккультный выход «за» нее, к четвертому измерению. [255] Второй – в статье со знаменательным названием «Труп красоты» [256] – изображает живописца Ставрогиным с кистью в руке: демоническая насмешка над вечной женственностью, безысходная тоска над ее поруганным трупом. Отклику русских философов на кубизм нельзя отказать в проницательности, но все-таки творческие намерения Пикассо ими излишне спиритуализированы. Когда последний с ухваткой истого «нового художника» превращает своих «Трех женщин» (одно из полотен щукинского собрания, перед которыми названные авторы в свое время испытывали астральное головокружение) в хитро обтесанные и расчлененные окаменелости, он не проделывает аналитической работы в точном смысле, не проникает ни в сущностную глубь материи, ни в потаенные возможности, укрытые в собственных формах натуры. И уж конечно, не засматривается в трагические «бездны». Нет, он обрабатывает натуру, властно, своевольно и именно с поверхности, для удобства этих операций предварительно умертвив ее взором Медузы. Если угодно, он действует обратно тому, что описано в истории Пигмалиона и Галатеи: живое обращает в недвижимую скульптурную группу, а потом как бы резцом подчеркивает в ней угловатость, ограненность и слоистость новообразовавшегося камня. Это имитация анализа, вскрытия, это псевдогносеологизм, точно так же как корнесловие В. Хлебникова – квазиэтимология, нажим извне на словоформы, а не постижение исторических тайн языка. Вместе с тем, такая методика несет с собой, конечно, определенный миропознавательный тезис: о косности, инертности, недухоносности всякой материи, в том числе и живой. Эстетическая эмоция, излучаемая таким полотном, держится на остроумии; не имея корня в «мировой гармонии», она вся «сработана», организована волей мастера. [257] Если здесь и присутствует демонизм, то особого пошиба – по не принадлежащему нам выражению, «демонический вкус к неживому»; тяга к движущемуся муляжу, заводному истукану.
Не стоит слишком доверять и свидетельской роли «нового искусства» – в его дисгармонической эстетике видеть прямое отражение бурной и катастрофической социальной жизни нашего века. Ведь столь же верно будет и обратное: сами социальные кризисы сначала вызревают в сфере широких культурно-жизненных принципов, включая и эстетическое мировоззрение, а уж потом обнаруживают себя непосредственно…
Поэтику «Столбцов» Заболоцкого обычно выводят из социальных условий нэпа, видя в ней инструмент трагической сатиры на «мещанство». Эта точка зрения, ныне привычная, развивалась когда-то и мной. [258] Но накопившееся за минувшие годы знание о философском пути поэта позволяет, не отвергая такой интерпретации, скорректировать и дополнить ее. Конечно, когда молодой Заболоцкий с романтической скоропалительностью выплескивает неприязнь к «обывателю» и взывает к миру: «… будь к оружию готов: целует девку – Иванов!» (I, 357), – он тем самым находит и конкретную привязку своего грубо-материального космоса к житейской действительности. Однако эта привязка не непременна; мир «Столбцов», родившийся из тяжбы автора с нэповским «Новым бытом», утверждает себя и поверх этой тяжбы. [259] Спустя год по выходе «Столбцов» Заболоцкий написал на пробу для антимещанского комедийно-сатирического фильма стихотворение «Самовар»:
………………………….
Император белых чашек,
Чайников архимандрит,
Твой глубокий ропот тяжек
Тем, кто миру зло дарит.
Я же – дева неповинна,
Как нетронутый цветок.
Льется в чашку длинный-длинный,
Тонкий, стройный кипяток.
Заболоцкий к тому времени уже начал меняться, и, несмотря на четкое «обличительное» задание, картина мещанского уюта решена здесь как идиллический примитив с нарастающим к концу колоритом легкости и «стройности». [260] Так что способ изображения «мещанства» – скорее лишь производное от философской космологии Заболоцкого.
Чтобы показать, как и в чем отрицается «Столбцами» классический канон Красоты, поучительно сопоставить эти дикие и смелые стихи с блоковским циклом «Город». Это будет сравнение исходных эстетических установок – «при прочих равных условиях».
Очевидно, мы имеем дело с двумя яркими явлениями искусства. Оба поэта, отделенные друг от друга в момент создания своих циклов четвертью века, – ровесники; оба молоды и дерзки. У них перед глазами один и тот же город – Петербург-Ленинград – с его урбанистическими чарами, волнующейся толпой, ночной жизнью, сомнительными соблазнами, неустойчивостью, контрастами, выморочным и призрачным богатством. И даже грандиозные события, заполнившие эту четверть века (1904–1929), в данном случае вносят в натуру не так уж много новизны, поскольку у Заболоцкого речь ведь идет о нэповской «реставрации» быта. Оба поэта, наконец, относятся к убого-нарядному зрелищу городской жизни с одним и тем же смешанным чувством отвращения и восхищения, так что человеческие, психические позиции их тоже близки. Различаются же их последние – философские, эстетические – основания, что и ведет к двум совершенно разным художественным результатам, к образцовым проявлениям классического и неклассического, «нового» искусства.
Красота в каком-то смысле принадлежит к разряду «вещей невидимых». Чин, порядок, иерархичность в миростроении, живая соподчиненность частей целому, этим частям предшествующему и их превышающему, – неочевидны, необнаружимы «голыми глазами» (несмотря на все наглядные красоты живой и неживой природы), скрыты «под грубою корою вещества», под неизбежными процессами разложения и распада – одним словом, требуют веры в то, что они не мнимость. В символизме такая вера сохранялась. Городские стихи 1904 года являли собой, в глазах самого Блока, уже измену «заветам символизма», во всяком случае – «соловьевскому» импульсу, действовавшему в содружестве младших символистов. Но то была «измена» религиозная, этическая, а не эстетическая (хотя, как увидим, в этих блоковских стихах есть уже черты экспрессионистского перелома). В «Городе» Блок ищет своего рода «демоническую» эстетику, с тем чтобы это демоническое начало предстало вдохновляющей и устрояющей силой. Благодаря такой посылке (как бы ни оценивать ее «при свете совести») ему удается сохранить стройные, классические очертания «злого мира».
Для примера выбираю стихотворения «Петр», «В кабаках, в переулках, в извивах…», «Невидимка» и «Город в красные пределы…». [261] В каждом из них соблюдено строгое иерархическое единство композиции. Все подчиняется невидимому дирижеру, люциферическому деятелю, возвышающемуся вне и над миром явлений и сообщающему картине зловещий, но внятный, неабсурдный смысл. Из некоего запредельного центра динамика распространяется во все углы городской панорамы, ничто не выбивается прочь из заколдованного круга, никто не своевольничает. Чего здесь нет, так это необъяснимого, нелепого самодвижения разрозненных частей – основы всяческого уродства. В стихотворении «Петр» [262] (самый простой случай) «веселый царь» (с чертами антихриста), ставленник и первосвященник Люцифера, взмахом «зловонного» факела-кадила дает знак к началу ночной оргии. И – зажигаются фонари, спускается мгла, вспыхивает в крови, прикидывается красотой, музыкой страсти – похоть: «Бегите все на зов! на зов! / На перекрестки улиц лунных! / Весь город полон голосов / Мужских – крикливых, женских – струнных!» В стихотворении «В кабаках, в переулках, в извивах…» городская толпа образует царственное шествие, подсвеченное излучением демонического светоносца. Злого духа здесь представляют: «старик у стены», к кому поэт обращается с вопросами: «Ты украсил их тонкие пальцы / Жемчугами несметной цены?» и пр., – и карлик вверху, на облачном уступе, чей язык – кровавая полоска заката. И хотя так и не дано прямого ответа, откуда взялась эта «музыка блеска», эта краса, фосфоресцирующая в ночи, ясно, что кто-то, некто наслал все это, зажег, задумал, изваял с пластической и звучной законченностью. В «Невидимке» снова мифическое существо, дух блуда, из болотистого, топкого отдаления околдовывает город своим голосом и зовом. Опять звучат вопросы: «Кто небо запачкал в крови? / Кто вывесил красный фонарик?» – и на них отвечено появлением в финале жены на багряном звере (апокалиптической блудницы). Существенна здесь та мера безобразного и беспорядочного, дальше которой Блок ни за что не пойдет, избегая стилистического «скрежета», диссонанса. Невидимка «воет, как брошенный пес, / Мяучит, как сладкая кошка», – но тут же возникает поправка, нейтрализующая слишком неосторожную брутальность: «Пучки вечереющих роз / Бросает блудницам в окошко» (инфернальная красота по-своему столь же интенсивна и возвышенна, как: «И за церковную ограду / Бросаю белые цветы» [263]). Другое экспрессивное снижение: «На красной полоске зари / Беззвучный качается хохот». «Воет» и «качается» – два ключевых глагола и в мире «Столбцов», шатком и кренящемся, как скопище самозаведенных волчков. Но чтобы выразить всю нелепость, всю необъяснимость никем не инспирируемого кружения и соударения взбесившихся предметов, Заболоцкому надо зайти куда дальше, чем все-таки корректное и традиционное сравнение демона с воющим псом; в сопоставимой ситуации у него «Лампа взвоет, как сурок» (I, 354). И оттого, что не только лампа, но и сурок выть не может, несостоявшимся сравнением засвидетельствованы крайние дезорганизация и беспорядок в этом аде без ада, аде без демонов.