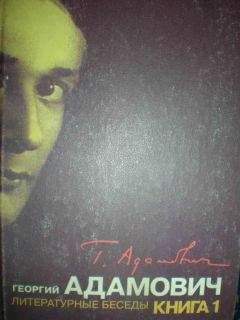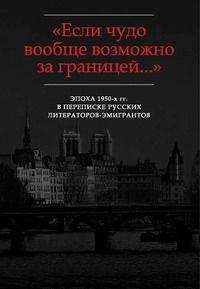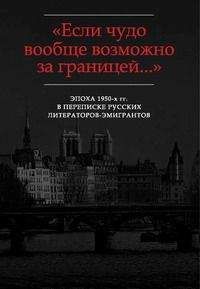Но уже и сейчас смутно определяются общие черты. Явление чрезвычайно заметное и, скажу откровенно, для меня неожиданное: культ Гумилева.
Бодлера, Тютчева и Гумилева
Читали мы…
– рассказывает один из молодых. Имя Гумилева поставлено здесь как равноправное, рядом с именами подлинных «полубогов» поэзии. К имени и творчеству его постоянно все возвращаются в любой литературной беседе. Я думал одно время: это случайное, парижское, увлечение. Но мне попался на днях в руки далекий шанхайский журнал «молодых»: и там — имя Гумилева на каждой странице. Как мало любили поэзию Гумилева при его жизни, как он от этого страдал и как теперь был бы вознагражден! Сейчас его влияние — самое благотворное, наиболее организующее, в противоположность блоковскому, требующему большей душевной выносливости и для слабых душ разрушительному.
Tel qu'en luimeme enfin l'eternite le change – невольно вспоминается знаменитый стих Малларме, при мысли о посмертной судьбе Гумилев. Образ его, теперь, созданный, — не совсем тот, который знали мы. Но, может быть, теперешние его ученики и правы, ценя в нем свойства, к которым мы остались равнодушны: мудрое и просветленное мужество, — и уже не различая всего того, что нам это в Гумилеве застилало.
< «КНИГА-ИЮНЬ» ТЭФФИ. – «ФЛАГИ» Б. ПОПЛАВСКОГО >
Если бы предложить Тэффи в качестве эпиграфа к собранию ее сочинений всем знакомые, заключительные слова из «Дяди Вани»: «Мы отдохнем, мы увидим все небо в алмазах…», если бы высказать мнение, что в сущности рассказы ее — самые «жалостливые» из всех, какие теперь приходится читать, писательница, вероятно, удивилась бы. Или, точнее, сделала бы вид, что удивлена, — и не замедлила бы в ответ какой-нибудь шуткой, каким-нибудь ироническим и насмешливым замечанием продемонстрировать, что в излишней чувствительности ее упрекнуть нельзя.
Один из самых лирических своих рассказов она так и кончает, — посмеиваясь над своей героиней: «бессмысленная, голубая, серебряная печаль… сентиментальность, романтика».
Но ирония и жалость — родные сестры. Тэффи принадлежит, очевидно, к тем душевно-стыдливым натурам, которым неловко становится от всякого проявления чувства, — и будучи не в силах себя побороть, справиться с собой, она эту свою «слабость» от других и скрывает. Тем более что внимание ее обращено не на мировые катастрофы, не на исключительные, редкие бедствия, а на обыкновенное существование обыкновенных людей, с которыми ничего особенного не случается и которые в мелких жизненных стычках, в мелких томлениях и неудачах теряют напрасно энергию своих душ и сознаний. У меня нет под рукой Чехова, но мне вспоминается «Дядя Ваня» и одна замечательная реплика в нем, которую, к сожалению, я принужден процитировать приблизительно, по памяти:
– Мир гибнет вовсе не от войн, не от пожаров и не от землетрясений, а от мелких, повседневных домашних невзгод…
Для Тэффи это аксиома. Она часто говорит о жизни с большой буквы, о жизни вообще, о великой и могучей силе, создавшей мир, «о любви, движущей солнце и другие звезды», но не находит, однако, для этих славословий ни тона, ни ритма, ни выражений, которые были бы вполне убедительны. Ее восторги остаются литературно-условными, «без изюминки». А лишь только коснется она частных случаев жизни, особенно тех, в которых великая сила, ею только что «воспетая», терпит какое-то непонятно-унизительное, непоправимое и карикатурное искажение, так сейчас же все слова ее становятся остры и правдивы, и один за другим проходят перед нами человеческие образы, еле-еле намеченные и вместе с тем предельно живые, не столько несчастные, сколько несчастливые… Оттенок очень важный для понимания Тэффи: ее влекут не те люди, с которыми случилось что-либо ужасное, а те, в жизни которых не произошло ничего хорошего, чудесного, замечательного. По ее общему мироощущению, жизнь есть непрерывное, нескончаемое торжество. А глядя, как это торжество превращается в безотрадное прозябание, Тэффи со страстным и встревоженным вниманием ищет объяснения – как это могло случиться.
Популярность Тэффи на этом, вероятно, и основана. Еще до войны кто-то определил ее рассказы, наивно и вместе с тем верно: «поэтические фотографии»… Точность воспроизведения действительно безупречна в ее писаниях, — она подлинно фотографическая. Но «луч поэзии» лежит на этих писаниях всегда — и виден сразу, без всякого усилия, «невооруженным взглядом»: читаете о Марии Ивановне или Петре Петровиче, все знакомо, все буднично — фон, даль и освещение волшебны и выдают призрачность реализма.
Общее впечатление: книга Тэффи написана именно для тех людей, о которых она рассказывает, для изверившихся умов, для измученных и ослабевших душ… Им уже не под силу, им уже не хочется следить за сложными и изменчивыми судьбами, разбираться в многообразии жизни, вникать и размышлять, — проделывать вообще всю ту работу, которую от читателя требует роман, «роман–река», по образному французскому выражению. Их организм подточен, он требует уже искусственного питания — каких-нибудь быстродействующих пилюль. И вот Тэффи такие пилюли изготовляет — пишет короткие, отрывистые, «мимолетные», умные и грустные рассказы, в которых как будто между строк говорится: «ну, о чем же расписывать, раз все равно и так ясно, к чему болтать, раз самого главного все равно не скажешь, зачем обманываться, если все равно все исчезнет…». Несколько слов, два-три безошибочных штриха, усмешка, восклицание – и точка. Больше писать не о чем.
Есть большая усталость в творчестве Тэффи – и, повторяю, к усталым людям оно и обращено.
Перелистаем новый сборник рассказов Тэффи – «Книгу-Июнь».
Маленькая Катя в первый раз влюбилась. «Господи, Господи! – шепчет она. – Помоги мне, грешная я… страшно на свете Твоем. Как же быть мне? И что оно, это, все это?» И все искала слов, и все думала, что слова решат и успокоят.
Умер мосье Витру. Муж консьержки. Пьяница, никчемный человек. «Первый раз совершил он общепринятый, буржуазный, вполне почтенный поступок, который возбудил у всех интерес и даже благоговение». На поминках мадам Витру, консьержка, разливая кофе, произносит, «как повторяют исторические слова великих людей:
– Мой бедный Андре часто говаривал: кофе надо пить очень горячий и с коньяком».
Старуха Столешина, бывшая «работница на общественной ниве», живет одна в меблированной комнате в Париже. Хозяева квартиры с гостями своими над нею смеются: «Мама, расскажи про католика! Мы так хохотали, мама! — Да, тут вышла забавная история, старушка наша заснула… и вдруг кричит: "Католик с постельки свалился, католик плачет"… Оказалось, она Катерину Павловну (дочь свою) называет Катулей, и ей приснилось, будто та еще маленькая Катуля… Катерина Павловна большая, толстая, и вдруг с постельки упала. Ха-ха-ха».
Институтка-гувернантка в деревне мечтает о герое. Ходят слухи о каком-то разбойнике – красавце и обольстителе. Случайный проезжий просится переночевать. Девица принимает его за «того», достает из сундука заветный кисейный капотик с голубыми лентами.
«Лежал, лежал, – шепчет она, расправляя оборочки, – и дождался»… «Сентиментальность, романтика».
Мадам Бовэ всем жертвует для шалопая сына. Клянчит у знакомых деньги. И даже принимает на себя ответственность за его преступление – убийство жены. «На гильотину! Смерть старому верблюду!» – ревет толпа при виде ее. «Смерть старому верблюду», – повторяет она и улыбается блаженно.
И так далее, и так далее… Во всем этом очень много мастерства, много зоркости, много понимания того, что такое человек и что такое литература… Но еще больше сочувствия существам, которым не удалась жизнь, – и желания, чтобы они увидали, наконец, «все небо в алмазах».
* * *Сборник стихов Бориса Поплавского «Флаги» – книга, о которой действительно можно сказать, что ее «ждали с нетерпением». Где, в каких кругах? – спросит читатель. Разумеется, в «кругах», пока еще довольно ограниченных, тесных, в тех, где интересуются поэзией и не считают ее только забавой, среди людей, которые читают стихи так же внимательно, как самую серьезную статью или самый глубокомысленный роман, – а, может быть, и еще внимательнее. Настанет время, я думаю, когда круг людей, которых Поплавский и его писания интересуют, значительно расширится, – но быть вполне уверенным в этом нельзя.
Будет это так или не будет, зависит от Поплавского самого, и не только от его литературного таланта, но и от его воли, от его ума и того трудноопределимого элемента, которым ум, воля и талант связуются в одно целое и дают слову писателя силу и значение.
Талант у Поплавского подлинный и редкий. Невозможно в этом сомневаться. Общее мнение склоняется даже к тому, что это самый даровитый из всех молодых литераторов, появившихся в эмиграции, — и, пожалуй, это действительно так, хотя и не существует, конечно, прибора, при помощи которого можно было бы подобные измерения производить. С первых же стихотворений, напечатанных Поплавским, на него все обратили внимание и запомнили его имя. Сколько угодно можно было найти промахов и недостатков в этих стихах, но имелось главное: голос, полет, щедрость и свежесть вдохновения — то, чему выучиться нельзя. Казалось, недостатки исчезнут, поэт вырастет, станет взыскательнее и строже и даст стихи прекрасные и свободные, а главное, «ширококрылые», такие, каких после Блока никто уже не пишет, если не считать Марину Цветаеву, у которой подлинная «ширококрылость» сочетается с болезнями вкуса и мысли настолько разительными и, по-видимому, органическими, что ее уж и в расчет не принимаешь.