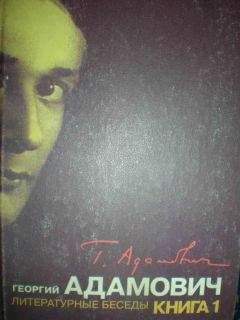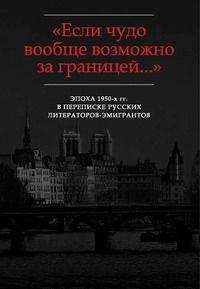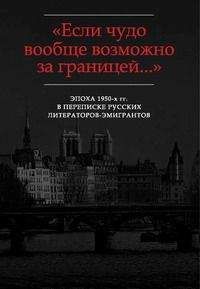Я задаю этот вопрос, не предрешая ответа. Но «со стороны» хотелось бы сказать, что внимание к книгам религиозного содержания и, следовательно, возможность для них кого-либо заразить своей сущностью, «опалить своим огнем», возникает только тогда, когда в книге есть боль. Тогда понимаешь, что боль эта витает и носится в мыслях своих около веры потому, что нигде больше она утоления не найдет.
Бердяев, конечно, знает это. Мало кто думал так много, как он, о религии и ее природе. Но опыт его, по глубокому моему убеждению, не совсем воплотился в слова. Есть в его книге одна характерная особенность: то, как она написана… Ровные, короткие фразы, одна на другую похожие, без ударений, без повышений или понижений голоса, педагогически наставительные: абсолютное спокойствие за ними; все ясно, все известно. Рай есть рай, ад есть ад. Разум отказывается от своих прав как будто без сожалений и страха, вера входит в них как будто без торжества.
Сегодняшнюю статью я хотел сначала начать словами:
— В советской литературе произошли крупные события.
Но, написав эту фразу и на мгновение задумавшись над ней, я без колебаний ее зачеркнул… Нет, в литературе советской событий не произошло. В литературе вообще «события» чрезвычайно редки. Они подготовляются в тишине и уединении, вне легкой борьбы мелких самолюбий, вне резолюций и постановлений каких-либо центральных комитетов. Оставим слова о «важных событиях в советской литературе» на тот день, когда в Москве появится новая замечательная книга. Сейчас речь не об этом.
События произошли в высоких литературно-административных «сферах». Разыгралась драма. Ее герои — те, кому поручено в России за литературой следить, литературой руководить, литературу направлять и «выпрямлять». Если бы этой драме искать название, то следовало бы озаглавить ее «Конец Авербаха». Впрочем, борьба еще не совсем кончена. Последнее слово еще не сказано. Но результат столкновения ясен, и, судя по всему, «последнее слово» в нем, — если его произнесет Авербах, – превратится в последнее слово подсудимого, умоляющего о пощаде или хотя бы о снисхождении.
История борьбы, только что пришедшей к развязке, должна быть в общих чертах знакома нашим читателям. Ей были не так давно посвящены две передовые статьи, о ней же говорилось в отдельных заметках. Поводом к ней явились выпады «Комсомольской правды» против РАПП, т. е. Российской ассоциации пролетарских писателей, возглавляемой Авербахом и претендующей на монопольное обладание истинно-ленинскими, истинно-сталинскими взглядами на литературу и в особенности на «литературную политику». Подлила масла в огонь и язвительная, запальчивая речь Косарева, главы и грозы комсомола. Повод, однако, не есть причина. Причина лежит глубже.
Она — в развитии того процесса, который длится уже лет восемь и, по существу, сводится к постепенной, но окончательной замене понятия творчества в литературе понятием обслуживания словом временных и местных государственных нужд. «Литературное дело есть часть общепролетарского дела». Эти ленинские слова оказались роковыми и несчастными для советской словесности. Ленин едва ли предвидел, что ими будут пользоваться, как удобнейшей формулой, для подавления малейших проявлений свободы или самостоятельности. Допускаю это предположение потому, что при Ленине какая-то «хартия вольностей» у литературы все-таки была, пусть убогая, жалкая, но, при сравнении с теперешними российскими порядками — несомненная. При Ленине литературой «управляли» Воронский, Троцкий и Луначарский, которые все-таки были людьми образованными, а главное – воспитавшимися и сложившимися задолго до эпохи повального лакейства, наступившего после «великого Октября» и ныне так пышно расцветшего. Если они теоретически и поддерживали принцип руководства литературой и опеки над ней, то все-таки по складу своему, по старой революционной закваске, были чувствительны к умственной и духовной честности, — и, раз признав человека своим, раз установив его основное, общее «попутничество», допускали его право думать, спрашивать и даже иногда сомневаться. О Воронском я совсем недавно писал, не буду повторяться.
С Воронским и его единомышленниками вступил в бой «юркий» Авербах. Сначала он оказался побежден. Но затем, отступив и сделав несколько ловких стратегических ходов, добился полного торжества. «Правая опасность» была объявлена и официально признана главнейшей опасностью, угрожающей советской литературе. Авербах был «левым» или представлялся таким. На деле его левизна была только большей преданностью правительственной цензуре и партийному внушении: и основана была только на большем пренебрежении к творчеству. Это именно он и его друзья постоянно цитировали слова Ленина о «части общепролетарского дела», указывая, что, помимо задачи быть такой «частью», других задач у литературы нет и быть не может. Казалось, Авербах занял пост «руководящего товарища» прочно и надолго.
Действительно, он царил несколько лет. Но жизнь у него сложилась трудная. Если «враги справа» были разгромлены, то немедленно нашлись «враги слева», заносчивые и упорно добивающиеся влияния. Приняв от Воронского власть над советской словесностью, Авербах принял, — будем к нему справедливы, — и некоторые азбучные истины: он, например, вместе с Либединским, отстаивал теорию о необходимости изображения «живого человека» в искусстве, — отстаивал и отстоял. Правда, «живой человек», по Авербаху и Либединскому, должен был обязательно быть коммунистом, «партийцем», иначе интерес к нему был бы преступен (именно в этом и была «левизна» Авербаха, по сравнению с Воронским), — но если герой романа состоял членом «нашей партии», то допускалось рассказывать не только о его подвигах на различных фронтах строительства, но и о его разговорах с женой и даже иногда о его любовных увлечениях или невзгодах. Недавно из группы Авербаха раздался голос в защиту того, что пролетарский писатель может коснуться иногда и темы смерти, хотя бы для преодоления и посрамления Льва Толстого и его Ивана Ильича. Авербах пропагандировал и лозунг о «срывании всех и всяческих масок», вокруг которого было за последнее время столько шума в России. Происхождение и судьба этого лозунга достойны внимания: он представляет собою фразу Ленина о Толстом. Толстой, по мнению Ленина, срывал все маски с тех, кого изображал. Авербах и его друзья предложили сделать метод Толстого методом пролетарской литературы. Предложение было опрометчиво, и неудивительно, что оно вызвало страстный отпор: во что бы превратились стопроцентно-добродетельные герои большинства советских романов, если бы с них «сорвать маски», что обнаружилось бы под масками? Авторы дрожали от страха и негодования. «Какие это, скажите, маски на большевиках?» – в притворном недоумении спрашивали они, поднимая очи к небу.
Все это привело к парадоксальному положению: Авербах и РАПП оказались защитниками писателей, последним легальным оплотом мысли и слова в России. У нас по старой памяти, по впечатлению от его борьбы с Воронским, он считается предателем и убийцей литературы. Но времена изменились. Авербаху пришлось отбиваться от новых «юрких ничтожеств». И по-своему прав был тот недавно приехавший из Москвы беллетрист, который в частном разговоре сказал:
— Напрасно ваша печать травит Авербаха… Он сейчас лучше всех других.
Если выбирать «из двух зол», то сейчас это, пожалуй, действительно, так. Полемика рапповских вождей с «Комсомольской правдой» предпочтительность такого выбора окончательно подтвердила. Комсомольский иронический лозунг: «Из рапповцев сделать большевиков» ничего хорошего литературе не обещал.
Полемика длилась долго. Не сразу можно было предвидеть, чем она закончится. Но теперь сомнениям места больше быть не может.
В спор вмешалась партия. Вмешательство произошло не в столь громоподобной форме как бывало иногда в былые годы, — без резолюций ЦК во всяком случае… Но все-таки «центральный орган нашей партии дал исчерпывающие указания», как смущенно и стыдливо замечает один их самых преданных Авербаху печатных органов – «Литературная газета». Указания даны в виде статьи ответственного секретаря московской «Правды» Л. Мехлиса под названием «За перестройку РАПП». Статья огромная, властная и решительная по тону.
«Литературная газета» полностью ее перепечатывает и тут же, в редакционном вступлении, кается во всех своих грехах и ошибках. «Мы допустили литературщину», «мы оторвались от общих задач культурной революции», «мы допустили ряд полемических перехлестываний», «критику т. Мехлиса мы относим на свой счет…» О бедном Авербахе нет и речи. Ни полслова в защиту его.
Вместе с тем целый ряд организаций, которые еще недавно находились в трогательном единомыслии с руководством РАПП, торопятся одна за другой вынести постановления о «полном согласии с т. Мехлисом». Это, конечно, самый красноречивый признак того, что старый кумир низвергнут. Цену «полным согласиям» и «всемирным присоединениям» советских литературных – а впрочем, и всяких других, – организаций мы за последние годы узнали достаточно хорошо, чтобы насчет природы такого внезапного энтузиазма не обманываться.