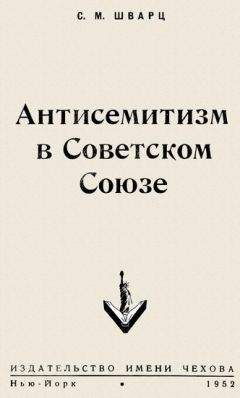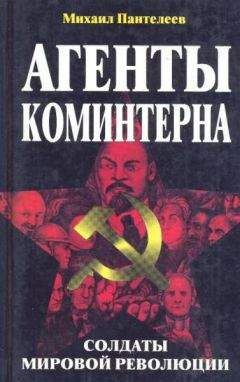Он категорически не принимал никаких подарков, кроме книг, которые, впрочем, также любил и дарить (как-то за свои старания я получил два томика, оба с дарственными надписями, из излюбленной мною “белой серии” “Памятников России”). “Эх, это вы угодили старику!” — удовлетворенно гудел он, рассматривая то репродукции Юона, то сказки Чаянова. Обычно, посещая его, я приносил что-либо из продуктов. Он сразу же спрашивал строго и безапелляционно: “Так, сколько я вам должен?” Я, конечно, невнятно пытался отказаться. “Нет-нет, так не пойдет. Иначе мы с вами поссоримся!”.
Эльза Густавовна мне как-то сказала: “Георгий Васильевич прожил очень тяжелую жизнь, и его всегда преследовал страх остаться без средств к существованию”. Человеком он был совершенно беспомощным в финансовых вопросах, да и кощунственно было бы предположить, что личность такого духовного масштаба могла бы опуститься до уровня житейской мелочности и суеты, и, естественно, этим многие пользовались. Эльза Густавовна вспоминала, как за гениальную “Поэму памяти Сергея Есенина” в минкульте ему ухитрились заплатить по низшему разряду. Как при получении в кассе денег дали несколько запечатанных конвертов, в которых недоставало по нескольку купюр в каждом (прием, на который и я неоднократно ловился). Как Свиридов потерял и забыл, что потерял, повестку из налоговой инспекции, а те, вместо того чтобы предупредить старика, позвонить, что ли, специально выжидали, когда подойдет срок, чтобы можно было слупить побольше штраф. Как его систематически обирали в РАО. Как в тайне от мужа она собрала черновики кантаты “Светлый гость” и отнесла их в редакцию для издания, потому что в доме нечего было есть, и как шумел потом, узнав о ее самодеятельности, Георгий Васильевич. Как пришлось продать всю мебель и многое из вещей, чтобы оплатить жизненно необходимое для здоровья Георгия Васильевича пребывание в Гурзуфе.
Слыша от очевидцев, что музыку из “Метели” часто играют уличные музыканты, он как-то грустно пошутил: “Надо нам с вами встать где-нибудь, вы будете играть на флейте, а я повешу на шею табличку: “Свиридов — автор вальса из “Метели”. “Я — кредитор, — иронизировал он, — живу за чужой счет”. За всю свою жизнь ему так и не удалось обзавестись собственной дачей. Вершиной его финансового успеха явилась покупка автомобиля, кажется, где-то в 60-е годы, на коем была предпринята запоминающаяся поездка по южнорусским городам, после чего автомобиль благополучно сгнил в деревянном дачном сарае, так как содержать его, естественно, ни сил, ни средств не было.
Раз с нанятым шофером поехали снимать деньги в сберкассе. Всю дорогу мучился, сколько “шоферу дать” (“он, наверное, думает — я миллионер, вон сколько у меня бумажек, а они исчезнут уже через два дня” — в ту пору деньги еще не были деноминированы), потом переживал, что заплатил слишком мало (хотя, на мой взгляд, вполне достаточно). Заметил, что люди в очередях в сберкассах стали очень озлобленные, хмурые, “такого раньше не было”.
В другой раз пришлось столкнуться с нашим закоренелым бюрократизмом, когда ему в сберкассе отказались выплатить деньги без доверенности, несмотря на то, что все служащие и сам директор его прекрасно знали. “Надо было им сказать, что я сейчас тут у них упаду, тогда бы, может быть, заплатили!”.
На обратном пути он с вниманием слушал мой рассказ о неких хитрых пауках, которые сами никогда не возятся с добычей, а поедают тех своих собратьев, которые в борьбе добыли себе пропитание и от сытости потеряли бдительность. “С каким смаком вы это рисуете. Это очень похоже на нашу сегодняшнюю жизнь!”.
В постперестроечные годы Свиридова одолевали всяческими предложениями об организации различных фондов с его участием, хотели использовать его имя во всевозможных рекламных и коммерческих целях, естественно, сулили и безбедную жизнь с личными шофером и домработницей. Пойди он на это, и его жизнь с материальной точки зрения была бы абсолютно решена. Но звучало его категорическое “нет!” — он до конца оставался непреклонен и принципиален, считая отвратительными любые формы торговли и спекуляции искусством, справедливо полагая, что содержанием художника имеет право и должно заниматься только лишь само государство, проводящее правильную национальную культурную политику.
Сам он излагал историю создания гениальной музыки к “Метели”, ставшей, по существу, его визитной карточкой, следующим образом: “Когда меня отовсюду выгнали (имелось в виду — с должности в Союзе композиторов. — А. В. ) и не на что было жить, Эльза вынудила меня писать для кино. Я тогда на нее очень ругался: это ты заставляешь писать меня эту ерунду! Потом, после того как фильм пошел, стали вдруг приходить письма, где меня благодарили за музыку, от разных людей, с самых разных мест. К сожалению, многие из них потом пропали. Наверное, пришлось выбросить”. “В этой музыке необычайно высок уровень художественного обобщения”, — проблеял я. Он тут же решительно возразил: “О нет, я не люблю громких слов”.
Как-то при мне ему позвонили из какого-то дома престарелых. Как он потом рассказал, очень его благодарили, сказали, что слушают сюиту из “Метели” каждый день, желали здоровья и долголетия. Он как-то невнятно и глухо бормотал в ответ слова благодарности. Казалось, что он всегда равнодушен к похвалам, потому что какая-то врожденная интеллигентская скромность никогда не позволяла ему нести, что называется, “бремя славы” с гордо поднятой головой. Он с юности и до старости чрезвычайно смущался, когда хвалили его музыку, совершенно не зная, что сказать в ответ, хотя в глубине души, безусловно, согревался мыслью, что его музыка нужна и он способен волновать человеческие сердца и сообщать людям свои сокровенные мысли. С затаенной гордостью вспоминал, как после исполнения “Отчалившей Руси” в зале Филармонии в Питере сначала была бесконечная овация, а потом, после выхода из здания, пришлось пробивать коридор сквозь плотную толпу восторженной публики, запрудившей площадь. Рассказывал, что один его знакомый (Юрий Петрович Воронов) завещал хоронить себя под музыку из “Метели”.
В последние годы жизни он очень заинтересовался оперными сюжетами, которые я “открыл” для себя в архиве Римского-Корсакова и рассказал ему о них. “Ведь это характеризует Римского совсем с другой стороны, он предстает совсем в новом качестве!” — восклицал он, узнав об интересе Римского к философским мистериям “Земля и Небо” по Байрону, “О кончине мира” (набросок А. Бельского). Но особенно его привлекло либретто “Страшной мести” по Гоголю, написанное П. А. Висковатым (которого Свиридов считал моим предком) для Римского. Фантастическая история нашла, по его мнению, полное воплощение в наши дни. Он переписывался по этому поводу со своим питерским другом, крупным специалистом по русской опере Абрамом Абрамовичем Гозенпудом, а меня просил сделать копию либретто одноименной оперы Николая Разумниковича Кочетова (русского композитора, чье творчество и даже имя и отчество, к моему удивлению, Свиридов хорошо знал). Возможно, некие музыкальные замыслы на этот сюжет постоянно его преследовали, поскольку он неоднократно возвращался к этой теме в разговорах.
Мы гуляли по лесным дачным дорожкам. Сквозь оголившиеся ветви деревьев печально блистало холодное осеннее солнце. “Посмотрите, после такой ужасной, непогодной, бессонной ночи — такое дивное утро, словно подарок покидающей землю душе, — восторженно произнес он после некоторого молчания и глухо добавил: — Сегодня почти не спал, задремал только в пять утра, в то время, когда принято умирать”.
“За последние несколько дней я спал только три часа”, — признался он один раз. “Болит голова, сердце, надо выспаться, а не могу заставить себя заснуть”. “Боюсь спать, если в доме нет кого-нибудь”.
Его часто преследовали трагические, кровавые картины, виденные в детстве: “До сих пор представляю своего отца, лежащего в гробу с подвязанной нижней частью лица!” (Отец его был зарублен отступающими белогвардейцами.) Центральная часть “Поэмы памяти Сергея Есенина” — “1919”: “Я проклинаю этот год, он принес неисчислимые бедствия всему русскому народу”. Войну в Чечне он воспринимал сквозь призму той старой Гражданской войны: “Русские солдаты по-настоящему становятся христианами, когда у них на спине бандиты вырезают крест”. Ему мерещились горы трупов, свозимые грузовиками в общие могилы. (Вспоминалась его потрясающая вокальная сцена “Видение” на стихи А. Блока.) Вообще, я обращал внимание, что у людей, чье детство пришлось на те страшные годы, на всю жизнь осталось совершенно особое отношение к людским смертям и страданиям. Посмотрев недавно документальный фильм о Георгии Жженове, я обратил внимание на то, что он во многом не только в мировосприятии, но даже и в манерах похож на Свиридова.