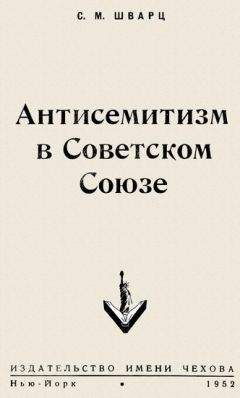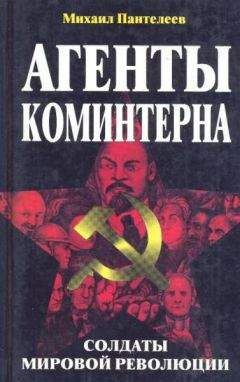В то памятное посещение я впервые услышал от Свиридова определение “русский музыкальный модерн”, на мой взгляд, очень точное, но до сих пор плохо разработанное музыковедами.
Его очень привлекли мелодии “Веснянок”: “Ну, это — вечные интонации”. Тогда же он сказал, что нужно обязательно инструментовать эту вещь: “Эти ходы будут чудно звучать у деревянных духовых” (начало “Весенних хороводов”), — что я и выполнил позже. “После этой вещи я бы сразу принял вас в Союз композиторов”. (Впоследствии Свиридов сыграл решающую роль в моем туда вступлении.)
Потом ели овсяную кашу с оливковым маслом, замечательно приготовленную Эльзой Густавовной: “Представляете, вот уже несколько лет ем кашу каждый день, и не надоедает!” (В последующие годы, когда я приобретал ему пачки “Геркулеса”, он обычно звонил на следующий день и говорил, что “каша получилась волшебная”.) Заставлял меня скушать побольше “колбасыра” — фирменного бутерброда по-свиридовски. Шутил, посмеиваясь: “Ешьте, такой колбасы у вас нет, это из спецзаказа”. (Через открытое окно влетел грозный лесной шершень. С большим трудом удалось его изгнать. “Когда я был помоложе, я умел их виртуозно давить, так как они имеют свойство падать вам за шиворот”.) Во время нашей трапезы у стола все время терлась большая жилистая кошка, “большая любительница охоты на мышей, внучка той, которую Ведерников изобразил на моем портрете”.
Вообще отношение Свиридова к еде было трогательное: он любил вкусно поесть, ценил хорошо приготовленную пищу, можно сказать, был гурманом. Сама столовая церемония являлась для него почти артистическим действом. Он по-аристократически придавал большое значение этому ритуалу и гневался, когда кто-либо, по незнанию или небрежности, нарушал установленный порядок. Мне как-то досталось, когда я раньше времени попытался выскочить из-за стола, чтобы унести свою тарелку в мойку. “Это вы просто невежливо поступаете!” — загремел он. В следующий раз он возмущался тем, что, как ему показалось, плохо вымыты приборы: “Что подумает наш гость? Придется быть Свиридову в доме — и посудомойкой, и уборщицей!”. С этими словами он ушел на кухню перемывать ножи и вилки. Часто ему действительно приходилось мыть посуду, притом его брюки тут же становились мокрыми от проливаемой на них воды. Конечно, в этом была большая доля актерства, может быть, даже гротеска, (кстати, он сам не любил и этого слова, и этого явления, считая их не русскими по происхождению), однако выглядело все очень органично и производило на собеседника неизгладимое впечатление.
Однажды, когда Эльза Густавовна лежала в больнице, а дома у них было хоть шаром покати, он принес мне крошечный мандарин, видимо, единственное, что мог предложить, но зато шикарно сервированный на несоразмерно большой закусочной тарелке.
А бесконечные разговоры о различных яствах! “В Фатеже у меня был друг, сын нашего приходского священника отца Константина, так его мать часто готовила говяжью печенку в сметане, меня тоже приглашали, я этот вкус до сих пор ощущаю”. Свиридов считал себя “спецьялистом” по выбору мяса, поэтому на соседний рынок всегда ходил сам, превращая обычную покупку в драматическое театральное действо. Продавцы с Тишинки, наверное, до сих пор его вспоминают.
“Ну что, стоящие покупки?” — задавал он вопрос Эльзе гордым удовлетворенным тоном, доставая из авоськи банку сайры археологического вида и пакет пшена, — то было в “полуголодные” перестроечные годы. Но то ли он еще переживал!
“Из рябины очень хорошо делать варенье. Об этом у Александра Яшина написана целая большая вещь! Моя мать очень любила делать такое варенье”.
“Солодовый хлеб все-таки был несравнимо лучше современного”.
“Необычайно вкусна налимья печенка! Ее необходимо готовить отдельно”. (Свиридов был выдающимся и удачливым мастером рыбалки). “Но ведь налима очень трудно поймать, он такой скользкий”, — выказывал я некоторое знакомство с вопросом, вспомнив небезызвестный анекдот Чехова. “Это вы мне рассказываете?”, — саркастически вопрошал знаменитый рыбак. Далее следовало захватывающее повествование о его былых рыбацких похождениях по Ладожскому озеру, когда Эльза Густавовна гребла на небольшой плоскодонке, а он потравливал сеть (с донной приманкой), и оба так увлеклись, что потеряли из виду берег с домом творчества “Сортавала” и лишь с большим трудом, пережив немало страхов и волнения, выбрались из этого опасного приключения.
“А бульон из постного куска парной телятины! Его же надо пить как лекарство!” — восхищался он. (Жаль, что я не записал описания меню из его памятной поездки во Францию, только церемония дегустации сортов сыра заняла бы страницу текста.)
А любимым блюдом его, как ни странно, являлась обычная яичница с помидорами, плюс дежурный, легкий в приготовлении “колбасыр”. Терпеть не мог спаржи и перловки, которые ассоциировались у него с голодными первыми годами жизни в Ленинграде, когда, кроме как на эти продукты, ни на что более вкусное денег не хватало. Из всех сортов яблок он отдавал предпочтение кислым осенним русским сортам, особенно антоновке, всегда просил привезти ему именно их, а не сладкие южные. Ел так или добавлял в чай. Кстати, чай всегда заваривал сам, не доверяя даже искушенной Эльзе Густавовне, чья “Книга о вкусной и здоровой пище” постоянно попадалась мне на глаза.
“Сегодня приезжал племянник из Петербурга, сварил мне суп, — и с удовлетворением добавил: — Постный, но очень вкусный”.
Он своеобразно резал хлеб: сначала нарочито, прищурив один глаз, прицеливался, а потом очень энергично и яростно, как опытный хирург, набрасывался на батон и быстрыми движениями отделял тонкий ломоть.
“Висков, вы много пьете?.. Не надо. Это сильно отвлекает от работы”. Тем не менее являлся “Белый аист”. “Юрию Васильевичу пить нельзя, но он любит смотреть, как пьют другие”, — елейным голосом произносила Эльза Густавовна (она всегда говорила подчеркнуто успокаивающе, мягко и певуче), пока Маэстро наполнял мой сосуд. “Больше двух рюмок я вам не налью, а то вы домой не доедете”.
В последние годы жизни Свиридов часто жаловался на отсутствие дома : “Нет дома! Негде жить! Холод в доме!” (“О” в слове, например, “холод” он произносил очень гортанно, с акцентом, как бы на выдохе.) Действительно, несмотря на все старания Эльзы Густавовны, его верного спутника, соратника, настоящего ангела-хранителя, одолеть житейскую неустроенность, постоянно ухудшающиеся условия жизни им, двум старым и очень больным людям, было уже не по силам. (В последние годы для Эльзы Густавовны представляло большую трудность даже просто разжечь газ: изуродованные подагрой пальцы не держали спичку, я покупал им пьезозажигалку.) Конечно, как могли, помогали близкие, друзья и знакомые. Тем не менее бороться с каждой бытовой мелочью становилось все труднее. Давнишняя болезнь сердца Георгия Васильевича (“у меня действует только одна четверть сердца, остальное — бесполезная тряпка”), плохая циркуляция крови приводили к тому, что Свиридов сильно мерз и боязнь холода одолевала его постоянно. Его пугали ветхие деревянные рамы на окнах московской квартиры (“в этом году будет очень суровая зима, может погибнуть много людей”), плохое отопление на даче. Там, в Жуковке, один на весь поселок печник должен был регулярно поддерживать паровое отопление во всех домах. “Топить печь — это большое искусство, — констатировал Свиридов. — Меня научил это делать мой приятель по техникуму. Теперь пригодится. Свиридов вам и кухарка, и печник!” Важно было не перегреть, так как при этом сразу же начинала ощущаться нехватка кислорода, что для сердечников недопустимо. Поэтому в кабинете на даче, на втором этаже, висел термометр, показания которого должны были постоянно проверяться, чтобы вовремя открыть форточку. Однако, как правило, композитор, пребывающий в своей музыкальной вселенной, забывал это сделать, а жена по причине больных ног не могла подняться на второй этаж, и все это нередко приводило его даже к обморокам: “Не уследил, как перегрели печку, упал и потом полз до телефона, чтобы вызвать “скорую”. Эльза была в Москве”. Один раз, дело было при мне, перегрели до такой степени, что весь дом стал сотрясаться от бульканья пара и воды в трубах: “Эля, мы сейчас взорвемся!” С другой стороны, если бы топить стали меньше, дом очень быстро бы остывал и становился нестерпимо холодным. В московской квартире, чтобы отрегулировать нужную температуру, приходилось тянуться к высоко, почти под потолком, расположенным форточкам. Для этого даже была изобретена специальная длинная палка. Все это очень досаждало Георгию Васильевичу.
Он категорически не принимал никаких подарков, кроме книг, которые, впрочем, также любил и дарить (как-то за свои старания я получил два томика, оба с дарственными надписями, из излюбленной мною “белой серии” “Памятников России”). “Эх, это вы угодили старику!” — удовлетворенно гудел он, рассматривая то репродукции Юона, то сказки Чаянова. Обычно, посещая его, я приносил что-либо из продуктов. Он сразу же спрашивал строго и безапелляционно: “Так, сколько я вам должен?” Я, конечно, невнятно пытался отказаться. “Нет-нет, так не пойдет. Иначе мы с вами поссоримся!”.