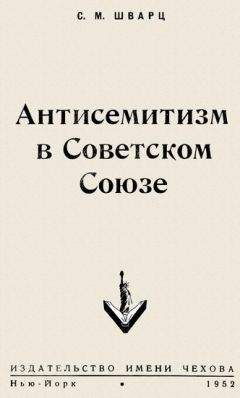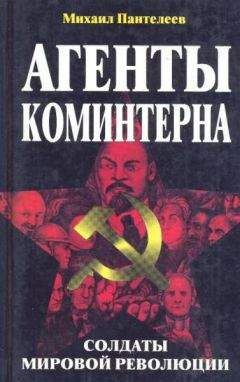Распорядок его жизни был целиком подчинен стихии творчества. Какой-либо временной организации в творческом процессе у него не было. Он мог сутками не есть, сутками не спать, сутками просиживать за фортепьяно. Обычно во время прогулок он, долго повторяя любимые стихотворные строки, постепенно формулировал и соответствующую им музыкальную мысль. Затем, сделав первоначальный ее набросок, он мог, не отрываясь от инструмента много часов, создать в едином энергетическом порыве все произведение целиком, однако потом мог также несколько лет, а то и десятилетий отделывать, обтачивать, доводить его, хотя, как правило, все было вполне готово уже на первой стадии. “Когда я заканчиваю сочинение, во мне включается какой-то загадочный механизм брака, и мне кажется, что я плохо написал. И вообще, имейте в виду, что Свиридов — дилетант : много лет не может закончить свои сочинения! У меня, как у Козьмы Пруткова, — много “неоконченного”. Вон уже несколько шкафов старой музыки. На одного Блока — 89 вещей! Теперь даже нет сил многого записать”, — жаловался он, наигрывая великолепную серенаду в духе сицилианы, предполагавшуюся в качестве музыкальной характеристики жениха Ксении в постановке “Царя Бориса”.
Существовал и другой способ сочинения, восходивший к старинным приемам русской иконописи: писание “на подобен”: “Мне нужен, так сказать, образец, который я мог бы взять за основу”. Многие произведения были созданы таким образом (в частности, некоторые из цикла “Песнопения и молитвы”, например “Странное Рождество”, где за образец была взята сектантская мелодия из сборника Чертковой), притом, как правило, полученный результат походил на оригинал с точностью “до наоборот”. То же самое можно сказать о его обработках народных песен (например, “Ты воспой, жавороночек” из “Курских песен”). Отталкиваясь от чего-либо, ему было легче найти что-то свое, свиридовское, “чтобы все-таки рука чувствовалась”, как он любил выражаться. К этому он всегда стремился даже при написании административных бумаг, уж не говоря о музыке или публицистических статьях.
“Посмотрите, какое это гениальное, волшебное изобретение — магнитофон”, — у него был небольшого размера диктофончик. “Пальцы — они умнее головы, сразу фиксируют любые душевные движения, звук рождается под пальцами, это — таинственный механизм, непосредственное душеизлияние”. То, что Свиридов “открыл” для себя это “волшебное изобретение” и стал постоянно им пользоваться, позволило ему записать множество эскизов собственных произведений, многие из которых он даже не успел нанести на нотную бумагу, а также наговорить огромное количество глубочайших и ценнейших мыслей об искусстве, о жизни, о народной судьбе, словом, обо всем, что мучило его постоянно и над чем он долго и напряженно размышлял. Я не встречал другого такого человека, кто столь искренне и непосредственно был озабочен проблемами грандиозного, вселенского масштаба, воспринимая их как свои личные проблемы и ставя их несопоставимо выше вопросов частного повседневного характера, своих собственных бытовых проблем. Поистине, в его душе были неразрывно слиты индивидуальные, национальные и всечеловеческие начала. На его примере была ясно видна справедливость афоризма: “Гений — это нация в одном лице”. Можно добавить: “человечество”.
Я также не встречал человека, до такой степени в буквальном смысле плененного музыкой. Все мысли, вся жизнь, все дела — только сквозь звучания двенадцати разновысотных нот. Мне всегда казалось, что быть до такой степени порабощенным искусством — это очень страшно: отними у тебя искусство — и ты погиб, и было поэтому очень жалко его, и я пытался навязать (правда, безуспешно) ему более легкомысленное отношение к духовному.
В процессе его работы с магнитофоном случались и забавные курьезы. Эльза Густавовна нередко просила меня приобретать электрические батарейки, притом за покупку дешевой “Варты” я получил от нее выговор: невыгодно, быстро заканчивается. Но и запасы более дорогого “Энерджайзерс”, который, как известно, “работает, работает и работает”, иссякали на удивление стремительно. Когда же я высказал некоторое недоумение по этому поводу, она смиренным тоном объяснила мне, что “Юрий Васильевич записывает, а потом забывает выключить магнитофон”, видимо, полагая, что техника просто обязана сама догадаться о его намерениях. Он уже давно высекает что-то из клавиатуры, позабыв обо всем на свете, уже и кассета закончилась, а батарейки все расходуются и расходуются. Неудивительно, что даже хваленого “Энерджайзерса” ему хватало от силы на один день.
“Нам нужно серьезно поработать, приезжайте, но не для того, чтобы просто поболтать, нам необходимо выполнить очень важное дело, дело всей моей жизни”, — пригласил он меня как-то в Жуковку. Я приехал. Делом этим, которое он давно планировал осуществить и за поддержкой которого обращался практически ко всем близким ему людям, была оркестровка его романсов. Он полагал, что это расширит сферу их практического применения. С этой же целью он выполнил в свое время, например, камерную редакцию “Курских песен”. Кроме того, он высказывал неудовлетворенность выразительными возможностями фортепьяно: “Просто фортепьяно устарело. Все приемы уже использованы, можно только комбинировать то, что уже было”.
В Жуковке я был первый раз. Поднялись в мансарду. “Вот, — засмеялся он, обводя рукой светлое помещение с заваленным нотами роялем посредине, — Свиридов — творческая лаборатория”. Стали смотреть знаменитый авторский экземпляр “Романсов и песен”, где в клавире густо были проставлены пометки об использовании тех или иных оркестровых инструментов. (“Закройте дверь, сквозняк — плохая примета”.) Внутренне я был настроен скептически: на мой взгляд, в своем первоначальном виде, то есть для голоса и фортепиано, романсы эти уже самодостаточны. Ведь никому еще не удавалось создать оркестровку, например, песен Мусоргского или Шуберта, хотя бы сохранив, я уж не говорю, превысив, уровень художественного воздействия оригинала. (Хотя были и исключения: Малер, Стравинский, Шостакович.) Однако эта идея сильно завладела Свиридовым. “Нужно больше посещать симфонических концертов, перестал слышать симфонические краски, после “Метели” ничего не писал для оркестра. Состав инструментов должен быть совсем не такой, как обычно. Я ощущаю, как это должно быть, но не знаю, как это сделать. Например, сочетание челесты, колокольчиков и арфы — это уже целый ансамбль”.
Он стал играть и петь песню на слова М. Исаковского “Осенью”. (В громких местах он пел с хрипом, переходя иногда на откровенный крик, в тихих — срывающимся фальцетом.) “Вначале — это колокольцы и две флейты — пикколо”. Одновременно рождались импровизации и новые музыкальные повороты. Вообще, игра при ком-нибудь стимулировала его фантазию. “Вот видите, как вы на меня благотворно действуете, — смеялся он, когда ему путем резкого и громкого перебирания разных созвучий (он словно бы вырубал их из клавиатуры) удалось нащупать наконец кварто-квинтовые созвучия взамен одноголосия в конце песни. — Надо обязательно это записать”. Оказалось, что в том месте, где гуси теряют перо, предполагается длинный пассаж-спуск солирующей скрипки, которого не было в нотах, но который “надо еще сочинить”. Очевидно, думая об инструментовках старых своих вещей, он еще раз переживал историю их написания, переносился в прежние времена своей жизни, и это доставляло ему большое удовольствие. “Вот здесь — птицы полетели. Тут нужно придать воздух”. Выяснилось, что он не любит валторну (я — наоборот, и предложил ему один из мотивов поручить именно ей). “Это же совсем не русский, а типично немецкий инструмент: “вальд хорн”. Зато ему очень нравились гобои, флейты и маленькие флейты пикколо. В них он слышал звучание своих любимых пастушеских инструментов Курской губернии: рожков, свирелей, кугиклов. Да и струнные инструменты, особенно скрипки, он использовал в очень своеобразной манере, вроде бы как играют крестьянские музыканты-самоучки.
Для меня до сих пор остается открытым вопрос, надо ли, да и можно ли адекватно инструментовать его фортепьянные романсы, ведь очень часто бывает, что музыкальный материал, обладающий безграничной художественной перспективой при исполнении сольным фортепьяно, сразу же теряется, будучи разложенным между многими другими отдельными инструментами. Думаю, разрешить этот вопрос — дело будущего. В тот раз все мои предложения и возражения категорически отвергались. Когда он хотел отказать, то обычно довольно сухо бурчал: “Хорошо, я буду думать”. У меня от этой затеи остались инструментованные по его рецепту “Русская песня” на слова А. Прокофьева и “Сибирская песенка” на слова И. Сельвинского.
В тот раз ему стало опять плохо от духоты: “Вот надушился одеколоном, а теперь кружится голова”. (Хотя, признаться, “благоухал” тогда именно я, по дурости переусердствовавший в дозировке, но это потому, что во время одного из недавних концертов Свиридов учуял якобы исходящий от меня запах чеснока и отругал меня за это: “Что касается меня, то это ничего, я даже люблю, а вот если почувствуют другие, будет конфузно”. Сам он всегда небрежно хлопал себя пару раз по щекам, когда разбрызгивал дорогой одеколон (чей-нибудь подарок) перед выездом на концерт.