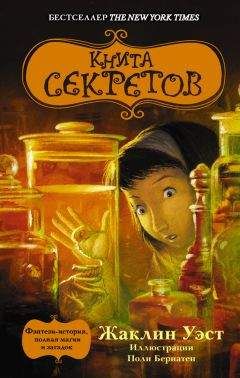показать в этой книге, у них обоих были черты, которые казались, по крайней мере изредка, свойственными каждому человеку. Мама была способна проявлять нежность и теплоту к очень маленьким детям, у нее было чувство юмора. Папа был способен вести себя дружелюбно и смешил нас.
Однако я понимаю, что многие люди никогда не начнут относиться к ним как к нормальным людям в том смысле, который каждый сам вкладывает в это понятие. Я также понимаю, что какими бы ни были реальные факты, всегда найдется кто-то, кто так и будет обвинять и клеймить меня, моих братьев и сестер. Кто-то продолжит считать нашу жизнь нелепым недоразумением, а нас – детьми уродов, считающими поведение своих родителей чем-то нормальным и не способными отличить хорошее от плохого. На протяжении многих лет многие люди говорили мне, что мы будем смеяться над преступлениями наших родителей, смаковать подробности их извращенной половой жизни, играть с костями их жертв и даже сделаем пепельницы из чьих-то коленных чашечек. Я понимаю, почему события в доме на Кромвель-стрит до сих пор вызывают такой жуткий интерес, однако для меня невероятно сложно принять точку зрения людей о том, что я, а также мои братья и сестры выросли, считая нормальным жестокое и безумное поведение наших родителей. Ничего нет дальше от правды, чем это. Всякое физическое и сексуальное насилие, которое нам довелось пережить, вызывает у нас один только ужас, отвращение и чувство несправедливости. Даже не углубляясь в детали половой жизни наших родителей, мы считаем их поступки абсолютно отвратительными. Когда папа сидел и смотрел видео, на которых мама занимается сексом со своими клиентами, мы выбегали из комнаты, если могли, или изо всех сил старались не обращать внимания на то, что происходило прямо у нас на глазах.
Иногда я думала о том, чтобы обратиться к кому-нибудь за психотерапевтической консультацией. Я всегда отстранялась от этого, чувствовала, что не заслуживаю такого внимания к себе, а еще я совершенно не представляла, как искать такого специалиста. К тому же я не могла себе представить то, что я вдруг откуда ни возьмись возникаю перед кем-то, начинаю рассказывать, кто я и почему мне нужна помощь. Несмотря на то что я во многом круто изменила свою жизнь, я все еще всеми силами пыталась сохранять свою анонимность. Я продолжала думать об этом, и ко мне приходила мысль – какой психолог вообще захочет взяться за этот мой случай? Конечно, у большинства людей есть непростой эмоциональный багаж – разводы, потери и тому подобное, но мой опыт по любым меркам точно находился за гранью вообразимого. Мне было сложно даже понять, с чего начать такой разговор.
Однако в конце концов из-за того, что я хотела двигаться вперед в своей жизни, а также ради будущего моих отношений с Питом и детьми, я решила шагнуть в эту неизвестность и связалась со службой помощи жертвам преступности. Это потребовало от меня огромного мужества. Во время первого звонка я ужасно нервничала, а когда раскрыла свою личность и объяснила суть проблем, из-за которых обращаюсь за помощью, то, как и представляла, почувствовала себя крайне уязвимой. К счастью, там нашелся человек, который не боялся выйти со мной на разговор и был готов помочь мне найти выход из проблем прошлого.
Это было нелегко. Говорить о таких интимных и невероятно болезненных воспоминаниях – тяжелейшее испытание. Я уже привыкла ставить чужие интересы и чувства выше, чем мои собственные – будь то мой партнер, мои дети, мои братья и сестры, моя мама. Чаще всего я старалась скрыть свои чувства. Если у близких когда-либо возникала какая-то проблема, я сразу же принимала ее близко к сердцу и старалась решить ее. Я чувствовала, что была не просто старшей сестрой для своих младших, но и в чем-то матерью для них, ведь они не знали, что такое нормальная мать рядом. Попытки принять, что не всегда на мои плечи должна ложиться ответственность за решение чужих проблем, шли вразрез со всеми моими привычками.
Мне потребовалось много времени, чтобы понять: причина этих проблем лежит в моих отношениях с мамой. Она манипулировала мной с раннего детства, заставляла быть эмоционально зависимой от нее, несмотря на всю жестокость и насилие по отношению к нам, а когда я выросла, она внушила мне чувство, что ей нужна постоянная эмоциональная поддержка от меня, ведь папа был таким ужасным мужем. Я просто не могла избавиться от чувства долга перед ней.
Наши с ней отношения были максимально близкими в тот период, когда я жила с ней во временных домах после папиного ареста за убийства. Днями и неделями мы жили с ней наедине, и мне приходилось ночью и днем слушать, как она оправдывает себя и обвиняет папу. Полиция тайно записала ее слова:
– Конечно, я злюсь на него, Мэй, а как ты думала? Понимаешь, если бы сейчас я оказалась рядом с этим мудилой, я бы вцепилась ему прямо в его сраное горло, и никому не удалось бы оторвать от него мои руки. Мэй, эта сволочь забрала жизнь твоей сестры и моей дочери. Это то, что ни хера нельзя прощать. Я никогда этого не прощу. И ты не простишь. И не забудешь.
Это было безжалостно. Я не хотела оставаться с ней так надолго, но у меня не было выхода, я не могла сбежать. Как позже предположила Тара, это была попытка промыть мне мозги, и во многом эта попытка увенчалась успехом. Я как будто попала к ней в заложники. Мне было страшно, тревожно, а мира вокруг как будто не существовало. Хотя в эти условия нас поставили сотрудники полиции, но выглядело так, будто это не они заключили нас в эту тюрьму, а мама.
Позже я прочитала про стокгольмский синдром – когда человек становится эмоционально зависимым от того, кто держит его в заложниках. И теперь я вижу, что всегда была эмоциональной заложницей мамы.
Общение со службой помощи жертвам преступности помогло мне увидеть это и заодно прочувствовать некоторые последствия того опыта. У меня не было нормального детства. Оно было таким ненормальным, что это вообще сложно назвать детством. Мне пришлось