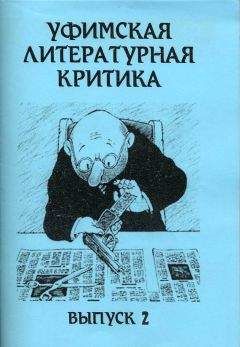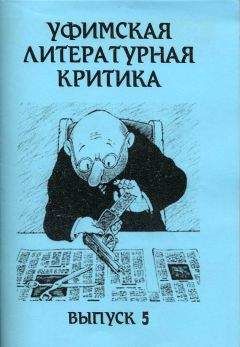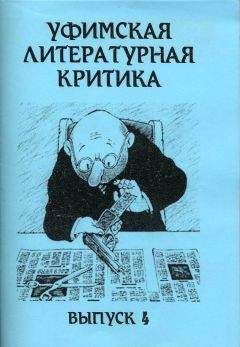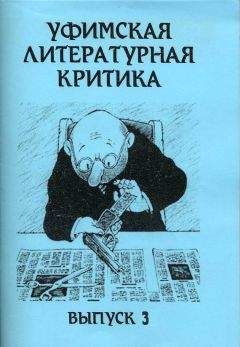Человек, начинающий читать оригинал, сталкивается с трудностями уже на фонетическом уровне. Попробуйте, не владея разговорной речью (а школа учит только читать), сразу уловить ритмику иноязычного стихотворения. (При переводе прозы трудности тоже есть, но они не так сокрушительны). Вам придется угадывать расстановку ударений, давиться «ненужными» гласными, запинаться о камни «лишних» согласных – и когда вы доберетесь до конца строки, окажется, что музыки за этим трудным занятием вы так и не услышали. Придется повторить – и не раз, прежде чем ритм зазвучит устойчиво.
Теперь о смысле. Поэзия ждет от вас (а вы – от нее) непосредственного восприятия – пошаговость понимания ей противопоказана. Предстоит побороться и с этим. Как бы ни был широк усвоенный словарь, ваш русскоязычный мозг не сможет безболезненно пропустить через свое сознание все эти неуместные для нас определенные и неопределенные артикли, все эти have been (имело быть!) – он обязательно задержится на них, чтобы рассмотреть и убедиться, что они всего лишь грамматически окрашивают следующее за ними слово. Да и сам порядок слов бывает совершенно невообразим для нашего воображения – вы можете читать некое утверждение, в конце которого вдруг встречаете какое-нибудь never или nothing – и все сразу оборачивается отрицанием того, чему вы только что поверили.
Для того, кто сам не вкусил переводческой радости, приведу пример. Вас угостили вишневым пирогом. Конечно, вы довольны – но только в том случае, если хозяйка удалила из вишен косточки. А если нет – попробуйте насладиться таким пирогом.
Предположим, гурман иноязычной поэзии преодолел отмеченные препоны – он аккуратно вскрыл пирог, выковырял из вишен все косточки, снова все запечатал и приготовился отведать и формы и содержания. Но тут его подстерегает, наверное, главное разочарование. Воспитанный на душистом дрожжевом хлебе русской поэзии, вкушающий с ужасом чувствует, что ему предложили безвкусный как поролон, дутый воздухом, заведенный на разрыхлителе продукт, который и хлебом-то назвать нельзя! Никакого вкуса – только неуклюже построенная информация. Но как же так? Ведь до того он читал готовый перевод, таинственность которого обещала поистине райские кущи оригинала. Он читал:
Иль показалось так в туманах греку,
когда вино
забыв, поцеловал
он линию – пределы человеку
обозначающий овал…
(Э. Хект,
пер. Т. Чернышевой)
Обратившись к тексту слева, он увидел:
Or so thought a man in a Greek mist —
Who set aside
The wine-cup and the wine,
And that deep fissure he alone had kissed,
All circumscribing line…
И перевел: «Или так однажды думал человек в греческом тумане – Который отставил в сторону чашу и вино, И эту глубокую трещину он единственный поцеловал, Все ограничивающую/охватывающую линию».
Бред, не правда ли? А слова при этом почти те же. Правда, все обретает какой-то смысл, если допустить некоторые порочные ассоциации, всплывающие из замусоренных русским сленгом глубин (в переводе эта подозрительная трещина замазана). Но дело даже не в том, что у разных языков разные ассоциативные ряды, и, начав с одного слова, мы можем ускользнуть в другую смысловую степь, перепутать, например, религиозные чувства с сексуальными. Вопрос иной – как превратить полученный подстрочник в поэзию? И какой вариант из десятка будет единственным? Здесь привередливый читатель вынужден отступить – он вдруг понимает, какие на самом деле задачи стоят перед переводчиком – и не с его, читателя, опытом браться за их решение.
Ты вдруг понимаешь, что чужой язык, как бы ты ни изучал его по книгам, оторванный от порождающей его стихии незнакомой тебе жизни, этот язык – настоящий Аид для лелеемой тобою поэтики. (Сравнение не ново, но ничего кроме не приходит на озадаченный ум). И, пускаясь в путешествие, переходя в царство мертвой (для тебя) поэзии, ты хочешь вывести оттуда на наш свет ту, которую ты помнишь и любишь. Но ты помнишь и то, что это оказалось невозможным даже для Орфея.
Чтобы проникнуть в Аид, чтобы хмурый Харон согласился перевезти живого через Стикс, простым оболом было не обойтись – требовалась золотая ветвь Персефоны. Где раздают эти ветви – неведомо. А чтобы вернуться оттуда не с пустотой за спиною – такого рецепта вообще нет. Вот и выводит каждый проникший не Эвридику, но какую-то отдаленно похожую – бывает и покрасивее, но все равно не ту… И даже для такой – условной – удачи переводчик должен отдать чужому стихотворению свою живую кровь, иначе возвращение Эвридики обернется возвращением мумии. Об этом знает каждый переводчик, но не каждый донор бывает щедр…
Стихотворение на чужом языке – всего лишь безликая формула. Чтобы получить понятный нам ответ, нужно подобрать и подставить вместо a и b наши языковые величины. В разбираемом случае англо-русского перевода подбор слов усложнен – в отличие от русского, английский язык в высшей степени омонимичен. Те двухголовые звери, что так редки в нашем лингвистическом лесу (самые известные – коса да ключ), встречаются в английском на каждом шагу. Большинство его слов переполнено значениями, выбор которых зависит от контекста (а контекст зависит от выбранных значений слов!). С одной стороны можно подумать, что такая смысловая плотность на лексическую единицу невероятно усиливает поэтические возможности языка. И действительно, во времена Ренессанса, когда английский язык активно развивался в связи с изобретением книгопечатания, поэтическое слово в полной мере использовало свой широкий диапазон – так разными гранями блистают слова Марло, Шекспира, Донна. Но сегодня английский стал в основном деловым, информативным языком, и бывшая его сила обратилась в слабость (вывод, который никому не навязываю). Утрируя, скажу – теперь это смахивает на детскую игру, где кубик может предстать и автомобилем, и домом, и человеком. Например, слово steek в зависимости от микроконтекста означает палку, трость, стек, смычок, подсвечник и многое другое – по сути, любой тонкий протяженный предмет. Одно слово содержит в себе весь синонимический ряд сравнений, так необходимых в поэзии – вся палитра в одной краске – ситуация, почти невозможная в русском языке.
Морфологическая ограниченность языка, его «упакованность», конечно, влияет на психологию литературного творчества. Невозможность достижения необходимой образной емкости строки за счет тонких оттенков слова превращает поэзию из непрерывной волны в угловатый график, упорядоченное множество точек, обретающее условную плавность только при достаточно большом количестве этих точек-слов. Относительное знакомство с современной американской поэзией вроде бы подтверждает нашу гипотезу. Преобладание подробной описательности, длинного толстовского перечисления, построчное сканирование окружающего мира, когда настроение создается кинематографическим подбором нужных передних планов, состоящих, впрочем, из тех же слов-корпускул – вот особенность американской поэзии (конечно же, исключения не исключаются).
Читая американских поэтов, я не мог отделаться от ощущения, что эту музыку я уже где-то слышал. Догадка пришла совершенно случайно, когда заглянул в сборник японской поэзии. Оказалось, что «среднеарифметическое» американское стихотворение сильно напоминает разбавленное (щепотка на литр) японское трехстишие хокку (всем известный Басё: «На голой ветке / Ворон сидит одиноко./ Осенний вечер). Поэтически карликовое хокку во много раз насыщеннее своего рослого потомства – оно провоцирует воображение, тогда как современный Запад стремится проговорить все. Из этого наблюдения вытекает еще один интересный переводческий парадокс.
В определенном смысле западной поэзии не повезло в России. А, может, наоборот, повезло. Кажется, Ю. Лотман говорил, что восприятие иноязычного поэта должно быть подготовлено появлением его «культурного двойника», который средствами русского языка прививает согражданам привычку к иной ментальности. У западной поэзии такой двойник в России есть, и еще одно дежавю, постоянно возникающее у читателя при встрече со стихами американских поэтов – результат его плодотворной деятельности. Иосиф Бродский многое почерпнул из англоязычной поэзии, – очень отличительную конкретность, вещность, и подробие (прошу извинить за неологизм). Бытует такое мнение, что Бродский впитал в себя английский холод через стихи Джона Донна. Глубоко ошибочное мнение. Даже сама «Большая элегия Джону Донну» – апофеоз чуждой Донну перечислительности. Воин, поэт, священник Донн с его яростными требованиями к Богу («Благочестивые сонеты») скорее схож с Лермонтовым, но еще более – с Достоевским. Но что касается донновской строфики, ее псалмовой монотонности, то она действительно повлияла на молодого Бродского, о чем он потом не раз упоминал.