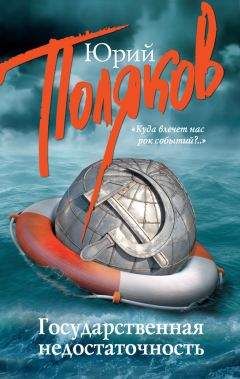– По крайней мере, не надо высасывать сюжеты из пальца и придумывать картонных героев. Как у многих: школа, Литинститут, первая книжка и резкий спад. Не о чем писать.
– Конечно, только самостоятельная жизнь дает тебе героев и знание людской психологии. Но у меня с детства была тяга к литературе. Кого-то Бог награждает музыкальным слухом. Кого-то даром изобретательства. Меня Бог наградил чуткостью к слову. И моя учительница литературы Ирина Анатольевна Осокина почувствовала мою склонность и поддерживала. Уже в школе я писал стихи и сценарии для КВНа. Но я видел, как трудно жили родители, и у меня было здоровое желание социального роста и материальной уверенности в жизни. К тому же я рано женился, надо было содержать семью. Звездной болезни и чувства собственной гениальности у меня никогда не было. Ощущения, что тебе все обязаны, твоя, мол, задача творить, писать нетленное, а поить, кормить и одевать тебя обязаны все остальные: общество, государство, родня – у меня тоже никогда не возникало. Я служил в армии в Германии, в самоходной артиллерии, окончил педагогический институт, преподавал в школе, защитил диссертацию, работал в райкоме комсомола. Был готов ко всему. Кстати, недавно побывал в Германии на месте моей военной службы. Мы стояли у Западного Берлина. Наш 45-й артиллерийский полк противостоял натовской артиллерийской бригаде. У меня даже было стихотворение.
Светилось небо голубое,
Летел над плацем птичий щелк.
На пять минут веденья боя
Предполагался наш артполк.
И вот обнаружил на месте нашего полка музей советской оккупации. Оказывается, я был оккупантом. Я-то думал, мы солдаты-освободители и моя армия спасла весь мир от фашизма, оказалось – нет. Так меняется время. Возвращаясь к литературе, повторю: у меня не было ощущения избранности, и я «подстраховался» филологией: защитил диплом по поэзии Брюсова, а потом – диссертацию по фронтовой поэзии. Собирался, если не получится с собственным творчеством, заниматься историей литературы, преподавать в высшей школе.
– Кстати. Я тоже до того был с детства влюблен в литературу, что готов был, если бы у меня ничего не получилось со своим творчеством, идти работать в книжный магазин продавцом, в библиотеку, лишь бы жить литературой. Люди, преданные литературе, служили и служат ей в любом качестве. И это никогда не исчезнет. Сегодня они могут быть и издателями, и меценатами. Главное – в мире литературы.
– Расскажу еще один эпизод, связанный со становлением творческого характера. Я занимался с детства изобразительным искусством. В нашем советском детстве мог реализоваться любой. Существовали в любом самом заводском районе всевозможные студии живописи, танца, музыки. И вот в такую студию я ходил. Потом поступил на подготовительные курсы в Архитектурный институт и понял, что не талантлив. Когда мольберты стоят рядом, все понятно; у них на ватмане гипс, а у меня – чугун… Я ушел оттуда. В литературе, к сожалению, мольберты рядом не стоят. Большую роль играют самомнение, первичная начитанность, мысль о том, что тебя недооценивают… Я дал себе слово: если увижу, что в литературе у меня тоже получается чугун, уйду. Стал честно готовить запасной филологический аэродром. Много и бескорыстно мне помогали мои научные руководители Анна Александровна Журавлева и профессор Михаил Васильевич Минокин. Замечательные русские люди в полной широте этого слова, просвещенные патриоты, которые так необходимы России.
В институте я писал стихи, посещал семинар Вадима Сикорского в Литературной студии при Московской писательской организации и МГК ВЛКСМ – руководил ею будущий ельцинский министр культуры Евгений Сидоров. В тысяча девятьсот семьдесят четвертом году в «Московском комсомольце» опубликовали мое первое стихотворение, позже подборку, где была строчка про «снег цвета довоенных фото» – этот образ всем запомнился. Собственно, молодой поэт и начинается для читателя с запоминающейся метафоры, яркого сравнения. Еще были популярны среди сверстников мои стихи про «двадцать миллионов шапок», которыми мы закидали фашистов. Вспоминаю уже покойного Александра Аронова, он вел в «Московском комсомольце» отдел поэзии и вывел в литературу несколько поколений стихотворцев. Когда у него самого в пятьдесят лет наконец-то вышла первая книжка «Островок безопасности», была опубликована на нее лишь одна рецензия – моя. Остальные как-то о нем забыли, видимо, остальные птенцы гнезда Аронова решили, что переросли своего учителя. На самом деле – не доросли.
– Что же ты, так удачно стартовав, неожиданно свернул на прозу?
– В самом деле, в поэзии у меня все складывалось благополучно. По своему внутреннему состоянию я традиционалист. Многие поэты, будучи от роду модернистами, приспосабливали себя под традиционализм, который в те годы поощрялся. Потом они все хлынули в постмодернизм. Подстраиваясь под господствовавший реализм, они его ненавидели. Я понимаю их обиды. Это примерно то же, как скрывать свою нетипичную сексуальную ориентацию: показательно заводить жену, семью, а мечтать о другом. И вдруг говорят: теперь можно с мужчиной. И гей в ярости: а что же я все эти годы уродовался – изображал из себя натурала!? Такая же обида на советский период у наших постмодернистов. Но мне не надо было подстраиваться, я был традиционалистом сам по себе. И буду им при всех установках и модах. Это мой внутренний склад и ума, и характера. Во-вторых, я был человеком искренним. Я был воспитан советской властью. Я в нее верил. Мне советская власть, в отличие от внуков пламенных революционеров, ничего плохого не сделала. Мне нечего было скрывать. Я служил в армии, далеко от дома, писал стихи об армии:
И как-то сразу подобреть душой.
Душой понять однажды утром сизым,
Что пишут слово Родина с большой
Не по орфографическим капризам.
Я писал это совершенно искренне. Когда я принес после службы в армии эти стихи в редакцию, выяснилось, что таких искренних стихов у них нет. Или такая воениздатовская поэзия, или отстраненно-скептическая. А в моих стихах заметили и патриотизм, и искренность. Все пошло в печать, у меня вышли книжки, обо мне стали писать…
– Думаю, сказалась и твоя энергетика, то, что Гумилев назвал пассионарностью. Этого тоже от тебя не отнимешь. И мало кому дана такая энергия. Немало талантливых писателей, увы, лишены необходимой энергии таланта.
– Я был лидером с детства. В любой компании. И в школе, и в институте, и в армии. И будучи советским человеком, я свою активность, как сейчас говорят, канализировал в то направление, которое не противоречило существующему порядку. И потому вдруг многие удивились, когда я написал повесть «Сто дней до приказа». А она была написана так же искренне и без всяких стремлений что-то разрушить. Более того, и сейчас считаю, если бы после моих повестей «ЧП районного масштаба» и «Сто дней до приказа», если бы после прозы так называемых «сорокалетних», если бы после всего искреннего наката критического реализма, власти прислушались бы к нам еще задолго до перестройки и приняли бы меры, никакой перестройки и не было бы. Как нет ее и в Китае.
Все удивились, как секретарь комсомольской организации может писать такую прозу. Но ведь те, кто считал себя оппозиционером, у них в столах после перестройки ничего не оказалось. Они так не любили советскую власть, что даже писать об этом не хотели. Или боялись. Я все писал одинаково искренне. И искренне пронес свои крамольные повести по советским журналам.
Да, я писал стихи, они у меня выходили, но я чувствовал, что в моих стихах есть свойственная прозе структурированность. Обжегшись на гипсе и чугуне в рисунке, я понял, что в моих стихах нет той блоковской вьюги, той блоковской непредсказуемости, которая и образует поэзию. Я понял, что и в моих стихах вместо гипса чугун. Я умею смотреть на свои тексты со стороны. Читать свой текст, как чужой.
– Редкое в литературе качество…
– И я сам отказался от поэзии. Взял и написал в восьмидесятом году первую повесть «Сто дней до приказа». По своим честным армейским переживаниям. Когда я понес повесть по журналам, на меня смотрели, как на идиота. Та же нынешняя либералка Наталья Иванова кричала, что это провокация, что я хочу подорвать журнал «Знамя», что нормальный человек не может принести такую повесть в советский журнал. Она имела в виду, что повесть надо сразу на Запад отправить. Но мне-то это не приходило в голову. Даже потом, когда про мои повести уже прознали и предлагали опубликовать на Западе, я отказался. И больше всего боялся, что их кто-то передаст тайком. В таком случае я бы становился на тропу войны с советской властью. А я этого не хотел.
– Уверен, что не один раз такими публикациями на Западе без разрешения делали нормальных писателей диссидентами. Вышлет кто-нибудь из редакции текст на Запад. И пошел текст гулять по «Граням» и «Континентам». А писатель и не догадывается, что его делают врагом советской власти. Тоже идеологическая работа. Ведь наше с тобой поколение детей Победы уже не участвовало в идеологических боях наших отцов и дедов. И, по сути, мало в чем было ущемлено. Да и уровень жизнь в СССР был тогда не ниже итальянского. И я думаю, противников из нашего поколения делали искусственно совместно КГБ и спецслужбы Запада, то публикацией в «Гранях» смогистов, а затем репрессиями в их адрес. Хотя какой из Леонида Губанова был диссидент? То историей с «Метрополем». И я помню, как усиленно старался Женя Попов вернуться в советскую литературу, восстановиться в Союзе советских писателей. Мы писали свои резкие повести и статьи, отнюдь не думая что-то свергать.