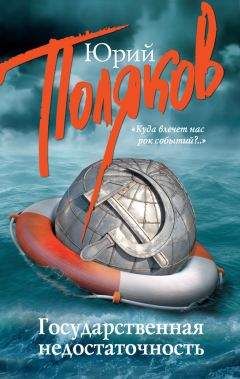– Я и сейчас уверен абсолютно: наша позиция была правильной. Мы писали свои произведения исходя из того, что нашу жизнь можно было улучшить эволюционно, открыто показывая недостатки. Если говорить об идеологии нашей литературы – это был классический критический реализм. Это позже я пошел в сторону гротеска, гротескного реализма. Конечно, моей личной идеологией было желание улучшить нашу жизнь. То, что меня устраивало в советской власти, было гораздо больше того, что меня не устраивало. В какой бы системе я, парень из заводского общежития, получил высшее образование, защитил диссертацию, объехал всю страну по командировкам ЦК комсомола. В какой бы стране я получил премию Ленинского комсомола за критику комсомола. За критику ельцинской эпохи мне, кроме тумаков, ничего не доставалось. «России верные сыны» – это премия оппозиционная. А единственной моей государственной наградой является премия Ленинского комсомола. Правда, сейчас мне вручили премию московского правительства, но это уже постъельцинское время.
– К тому же московская премия вообще ведет себя достаточно независимо и не подчиняется всем либеральным веяниям. Уровень ее художественной объективности всегда высок.
– Надо отдать должное Сергею Есину, который курирует литературную составляющую этой премии.
– Тебе исполнилось пятьдесят лет. Самые первые предварительные итоги. И что же было главное в твоей жизни? Какие главные события повлияли на нее?
– Это первая моя книга поэтическая. Это, конечно, выход в журнале «Юность» повести «ЧП районного масштаба» в восемьдесят пятом году, когда я проснулся знаменитым. Третье событие – девяносто первый год, который помог мне самоидентифицироваться. До девяносто первого года, живя в стране стабильной и благополучной, я имел к ней множество претензий, но не сомневался в ее жизнеспособности. Да, меня за мои повести вызывали в ЦК, в ГлавПУР, в КГБ. Но на меня не смотрели как на врага. Со мной разговаривали как с ответственным человеком, которому напоминали, что слова писателя России имеют особенность влиять на жизнь. И многие опасения этих людей были абсолютно справедливыми. Когда я смеялся над генералом, который говорил мне: вы понимаете, что повесть могут использовать враги нашей страны, я не верил ему. Но так и произошло. Мои повести были активно использованы для разрушения страны. Вспоминая эти разговоры, я понимаю, среди людей, управлявших страной, было очень много умных и рассудительных. Беда в том, что не они стали реформировать страну. А стал реформировать ее генерал Волкогонов, который и был главный враг моей повести. Он запретил ее публикацию в журнале «Пограничник».
– Если бы вдруг тебе сказали, твои повести никогда не будут опубликованы, зато страна твоя не будет разрушена. Какое бы решение ты выбрал? Наступил бы на горло собственной песне? Или тяга к творчеству выше чувства спасения своей страны? Проза писателя в те советские годы на самом деле могла реально раскачать общественную лодку.
– Мы были реальной признаваемой государством оппозицией. Но были оппозицией конструктивной. И как-то к нам прислушивались государственные мужи. Но по поводу твоего вопроса, наступил бы я на горло собственной песне? Я нынешний говорю: да, наступил бы. Предпочел бы интересы государства. Ради покоя страны и поступательного развития я бы убрал в стол свои повести. Но будем честными, тогда, в молодости, я был другой, хотел печататься, и к тому же не верил, что советская держава может рухнуть. В это мало кто верил даже из наших лютых врагов. Я думал, что даже самое жестко-правдивое слово идет только на пользу.
– В это не верил даже Солженицын, который писал свое «Письмо вождям» с рекомендациями по улучшению советского строя.
– Только сейчас, составляя пятитомник и перечитывая повести, я понял, что написал. Даже не допуская мысли о глубине измены в высших эшелонах советской власти, на самом деле я эту измену в своих повестях и описал на уровне райкомов и горкомов. Страну сдали эти мои карьеристы из «ЧП районного масштаба» и «Апофегея». Сдали за счет в банке, за рукопожатие с Тэтчер. Почему сегодня вновь популярна эта повесть: кроме меня, эмбрионального состояния предательства эшелонов власти в прозе никто не описал. Никто не знал этой жизни. Эмбрионы предательства развивались не в вологодской деревне и не в пивной останкинской, и даже не в научной лаборатории, где наряду с кухонной фрондой продолжали конструировать новые ракеты, подводные лодки и заводы. Эмбрионы предательства развивались в партийном и государственном аппарате, где мне и довелось какое-то время работать.
– Как возникла идея именно пятитомника? К пятидесятилетию – пять томов. Магическая цифра пять. Или случайно так сошлось? Есть некая красота жеста.
– В принципе это получилось стихийно. Мы хотели шесть томов. Если бы я успел дописать роман «Грибной царь», был бы шеститомник. Как всегда у меня получилось так, как надо.
– Кто был у тебя в литературе кумиром? У кого ты учился? Под чьим влиянием находился? Или обошелся без учителей?
– У меня поэтический учитель был. Это Владимир Соколов. Он мне писал предисловие к первой книжке. Его врачующий классический стих мне был близок, я ориентировался на него. У него-то блоковская вьюга, несомненно, была. Он вообще один из крупнейших поэтов нашего двадцатого века. В прозе у меня не было мэтров. Я прозу осваивал сам. Без литинститутов и семинаров. Я всегда много читал. В мировой литературе меня всегда грел западноевропейский реализм. Из отечественных писателей я ценю Ивана Бунина, Михаила Булгакова, Гоголя, конечно. Кстати, Ильфа и Петрова. Напрасно сейчас их стараются записать в либеральную массовую культуру. Это гораздо более сложное явление. И плюс яркие таланты. Из моих современников старших, конечно, мне близок Юрий Трифонов, Валентин Катаев, тоже незаслуженно сейчас отодвинутый на край литературы. Весь наш постмодернизм вышел практически из Катаева.
– Я думаю, Валентина Катаева либералы не могут простить за повесть «Уже написан Вертер». Был с потрохами в рядах либеральной литературы, вскормил всю исповедальную прозу, и вдруг такая сокрушительная антилиберальная русопятская проза. Да и «Алмазный мой венец» нарушал какие-то табу. Вот и потеснили его на край. А в почвенном направлении к нему никогда симпатий не питали. Вот и оказался свой среди чужих, чужой среди своих. Кстати, подобная ситуация, на мой взгляд, близка и тебе. Ты не чувствуешь себя в положении «свой среди чужих, чужой среди своих»? Или сейчас ситуация заметно проясняется, если Валентин Распутин пишет восторженные слова к твоему юбилею.
– Это было почти с самого начала. Одних раздражала моя комсомольская деятельность. Других раздражало то, что при своем комсомольском секретарстве я пишу какие-то запрещенные повести. Иных раздражает до сих пор моя советскость. Когда грянул 1991 год, я напечатал в пилотном номере «Дня» статью «О праве на одиночество», которую ты назвал по-газетному лучше «Из клетки в клетку». Зачем мы, выскочив из большой клетки, разбежались по маленьким. Нежелание входить в какие-то команды было у меня с самого начала. Все кончилось тем, чем должно было закончиться. Я вышел из всех союзов и возглавил «Литературную газету», где всех талантливых писателей пытаюсь собрать вместе. Меня сильно обидели в Союзе писателей России, но это никак не сказывается на моей позиции как главного редактора. Я стараюсь свои личные обиды на редакторскую деятельность не переносить.
– Любого талантливого писателя, увы, в любые времена многие ненавидят и обижают. Причина – зависть бездарности. Даже талантливый враг к своему оппоненту обращается с должным уважением. Бездари и хамят бездарно. Грубо и вульгарно.
– Это по-человечески понятно. Я представляю писателя, у которого давно не выходили книги, которого нигде не печатают, кроме какого-нибудь малотиражного издания. И вот он заходит в книжный магазин, видит, что стоят на полках только в этом году вышедшие восемь отдельных книг и два разных пятитомника. Включает телевизор и видит экранизацию моего романа «Замыслил я побег…», едет по Садовому кольцу и видит на афише Театра Сатиры, что скоро премьера моей новой пьесы. У него в груди начинает набухать ненависть к этому Полякову. Я не оправдываюсь перед своими сотоварищами. Я ничье место не занял. Я буду рад, если у тебя выйдет книга, как «Козленок в молоке», выдержавшая уже двадцать три издания. Буду рад, если твои пьесы поставит столичный театр. Я буду стараться напечатать все, что интересно, в своей газете.
– Говорят, у Полякова хорошие организационные способности. И это так на самом деле?
– Володя, скажем, я благодаря способностям издал книгу или пробил пьесу. Но дальше-то покупать книгу или смотреть спектакль никаких организационных способностей не хватит. Рынок по-настоящему жесток. Он и Маканина, и Крупина оценивает не с точки зрения их идеологических взглядов. А с точки зрения покупаемости книг. Я же не могу коммерческих издателей заставить непрерывно переиздавать мои книги. Извини, дорогой товарищ, но значит, в профессии мне удалось больше, чем тебе.