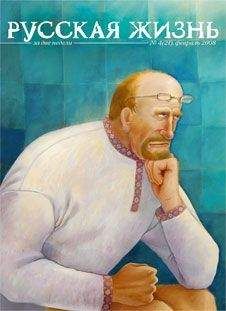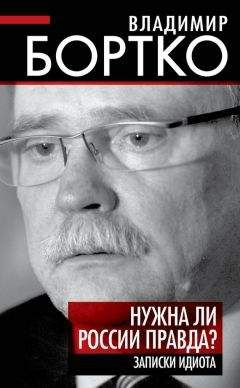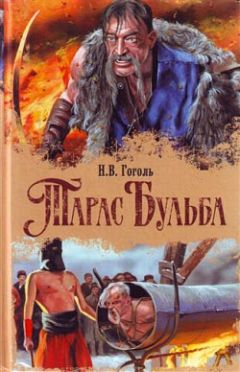Позже Курдюмов женился на девушке из хорошей семьи, но это не мешало ему продолжать принимать визиты дам, и он не стеснялся сажать их к себе на колени даже в присутствии жены. Это была странная пара: его жена жила в деревне, он - в городе. Он навещал ее два раза в год - на Рождество и в пору летнего отдыха.
Прошло несколько лет, я потеряла их из виду, а затем, спустя много времени, он приехал в Зубовский институт, чтобы увидеть меня. Я была сильно удивлена этим. Он попросил меня показать ему зубовские интерьеры, что я с удовольствием сделала. Но я была неприятно удивлена, когда он обнял меня за талию. Я ужасно испугалась, что профессора Института увидят меня в таком фривольном положении. Ведь здесь следовало себя вести прилично, и профессора посмотрели бы косо даже на такой, по сути достаточно невинный, жест. Я сослалась на начинающуюся лекцию и распрощалась с ним. С тех пор я не имела случая его видеть, тем более что он жил в Москве.
Кабаре под названием «У бродячей собаки» в начале века было уже хорошо известно; позже оно сыграло большую роль в моей жизни, но в описываемое время я даже не знала о его существовании. В один прекрасный день мне пришло в голову провести там новогоднюю ночь. В сопровождении Годзинского, завсегдатая кабаре и музыканта, я утром отправилась в «Бродячую собаку», чтобы предупредить о своем визите туда вечером. Борис Пронин, директор «Собаки», бывший режиссер драматического театра, сказал мне, что я могу придти, но без гарантии: слишком много народа. Вечером за мной зашел Годзинский. В этот период мой муж почти не выходил из дома. Эта болезнь длилась почти восемь лет. Он лечился у психиатра, но безрезультатно.
Годзинский отвел меня к знакомым, которые непременно хотели провести этот вечер в ресторане, но я решила пойти в «Бродячую собаку». С нами была одна полька, очень красивая, благодаря ей и ее уверенному виду мы все вошли, даже не заплатив при этом ни копейки. Вся эта компания оставалась там недолго. Некий Пиотровский, человек с чистыми бледно-голубыми глазами, с которым я познакомилась в тот вечер, но позже часто виделась, выпил немного лишнего, и прекрасная полячка увела компанию в другое место. А я осталась одна проводить канун Нового года в кабаре «Бродячая собака»; и так повторялось в течение многих лет.
Это кабаре помещалось в подвале с небольшими окнами; чтобы скрыть их малый размер, были повешены шторы, на которых поочередно красовались изображения арлекинов и коломбин. Эти декорации сделал художник Судейкин, работами которого можно полюбоваться в Русском музее в Ленинграде. Стены были украшены изображениями цветов и птиц. Как писала Анна Ахматова, «на стенах цветы и птицы томятся по облакам».
Здесь было два зала, больший из которых служил эстрадой; с противоположной стороны имелось возвышение в четыре ступени, где можно было расположиться за довольно большим столом. Других столов, маленьких, было довольно много; их всегда украшали свежие цветы. Когда под утро мы покидали подвал, Пронин раздавал оставшиеся цветы дамам. Когда же они приходили в кабаре, он также встречал их словами: «Цветы и дамы, дамы и цветы…».
В зале был один особенно укромный и уютный уголок, где стоял диван и стол внушительнее других. Во втором зале мебели почти не было: кругом стояли скамейки, было полутемно, а иногда темно почти совсем.
Мы, постоянные посетители, проводившие здесь ночи напролет, не должны были платить за вход; но вообще входная плата была довольно высока.
Среди завсегдатаев был знаменитый русский поэт Георгий Иванов, тогда совсем молодой человек семнадцати лет, который, однако, уже успел выпустить книжку стихов. Он был среднего роста, скорее тщедушный, с волосами, подстриженной челкой, которая покрывала лоб. Комната, где он жил, была как у девушки: постель покрывали белые кружева, туалетный столик украшал флакон одеколона и т. п. Все это я увидела, когда как-то раз зашла к нему за сборником стихов, который он мне давно обещал. Георгий был очень талантлив, но я не могу судить о его поэзии, потому что кроме этой первой его книги больше ничего не читала.
Мне кажется, он хотел мне понравиться, но, честно говоря, я не обращала на него особого внимания.
Мой первый и единственный визит к нему домой происходил так: он сразу прошел к туалетному столику, начал переставлять бывшие там флаконы и сказал между прочим: «Вот это - одеколон Кузмина». Поскольку я ничего не ответила, а на лице у меня ясно было написано, что его одеколоны меня не интересуют, он, помедлив, произнес: «А Вы не слышали, чтобы обо мне говорили, что я „такой“?…» Я довольно холодно ответила: «Нет, ничего подобного не слышала». Получив книгу, я через несколько минут с благодарностью откланялась.
Однажды во время вечера в кабаре, когда я беседовала с одним из своих «ухажеров», мы увидели Георгия Иванова сидящим неподалеку. Мой кавалер попросил отпустить его на полчасика: он хотел засвидетельствовать почтение «юному Иванову», который на этот раз был в одиночестве. Мой знакомый сел рядом с ним и попросил разрешения заказать ему бокал вина. Ответ был мгновенным и высокомерным: «Да, мерси; но я пью только шампанское».
Я услышала этот ответ, и мне стало смешно, т. к. я хорошо знала, что у этого мальчика была привычка после ухода приглашенных с удовольствием опустошать бутылки, еще оставшиеся на столе. Кажется, мой кавалер также посчитал слишком высокой цену за «свидетельство почтения» и довольно быстро ретировался.
Одним из ярких поэтов, которых я встречала в «Бродячей собаке», была Анна Ахматова, уже знаменитая в это время. Ее стихи, очень своеобразные, мне тогда не нравились, как и ее внешность, - она была худой, немного сухой, с острым лицом восточного типа. Она была женой поэта Гумилева. За ней ухаживал поэт Шилейко, изучавший восточные языки; я помню его, высокого и худощавого, в форменной тужурке студента университета, под мышкой - толстый том персидской поэзии, который он ей показывал. По ассоциации на ум мне пришел доктор Фауст. Как-то раз, когда Гумилев собирался уходить, Шилейко вдруг попросил у него разрешения проводить домой его жену. Гумилев рассердился и уже с порога прихожей ответил ему: «Это немыслимо. Если хотите, можете к нам придти и оставаться с ней хоть на всю ночь», - после чего эта пара покинула кабаре.
Иногда в «Бродячей собаке» бывали музыкальные вечера. Я помню один такой вечер, когда певица исполняла современные романсы, а аккомпанировал ей профессор Софроницкий. Он имел обыкновение рано ложиться спать, и потому собирался уйти сразу после концерта, однако директор Пронин непременно хотел задержать его. Будучи немного навеселе, Пронин обратился к нам, двум дамам, со словами: «Задержите его, задержите его, чародейки». И нам это удалось - мы удержали его до утра. Но это был единственный раз, когда Пронин позволил себе обратиться к нам в подобной манере.
Я теперь снова возвращаюсь к Шилейко, знатоку восточных языков, который также писал стихи, изредка публикуя их в журнале «Аполлон». Это было время мировой войны. Шилейко не был красив; большой, очень худой, с печальными глазами, которые, казалось, видят тебя до самой глубины души. Он часто усаживался за мой столик, иногда сопровождаемый своим приятелем, поэтом, погибшим в самом начале войны. Пили красное вино и о чем-то разговаривали. Как Нарцисс, я была очарована собственной внешностью, я сама собой восхищалась, и часто меня охватывало желание встать из-за стола и посмотреться в зеркало, чтобы снова почувствовать удовольствие быть красивой. Стихи Бальмонта о Нарциссе казались мне написанными для меня…
Однажды, часа в четыре утра, несколько человек оставалось в кабаре, среди них Паллада и ее титулованные приятели. Мне было смертельно скучно, я села одна и смотрела на танцовщицу, выступающую на сцене. Вдруг ко мне подошел Шилейко и сказал: «Как жаль, что Вы замужем. А то я смог бы приходить к Вам и читать персидских поэтов…» - «Совершенно не важно, замужем я или нет. Все равно Вы можете приходить ко мне читать стихи хоть сегодня, но с одним условием: не раньше восьми утра. Потому что в это время г-жа Гартевельд обычно уже встает и одевается, и горничная тоже».
Было больше пяти часов утра. В семь мы ушли из кабаре. Холодало, и я посоветовала Шилейко не брать извозчика, а ехать на трамвае. Тут он вдруг спросил меня: «А у Вас есть ковры на лестнице?» Сперва я ничего не поняла, но затем сказала с нажимом: «За кого Вы меня принимаете? Не считаете ли Вы, что я веду Вас в буржуазный дом, где муж может спустить Вас с лестницы?» Он не ответил.
Мы подошли к двери нашей квартиры. Я позвонила, дверь открыла горничная. Я знала, что когда меня нет дома, мой муж обычно спит в комнате своего брата. Я с громадным удовольствием представляла себе тот момент, когда мой муж, проснувшись, увидит фигуру незнакомого человека прямо у своей кровати. Я провела Шилейко в комнату, где спал муж, усадила его на кровать, а сама стала будить мужа: трясла его за плечо и говорила: «Гри-Гри, просыпайся».