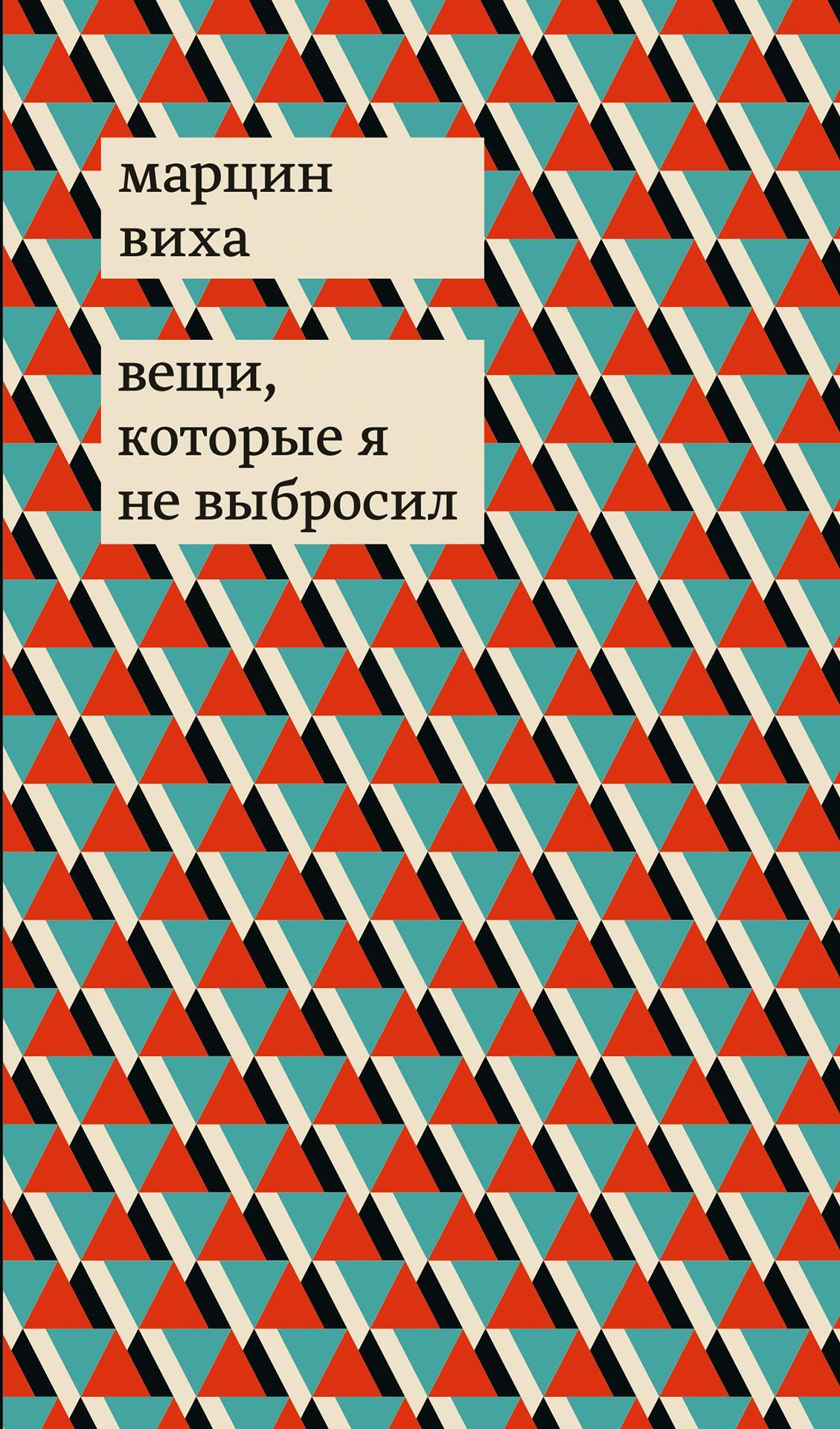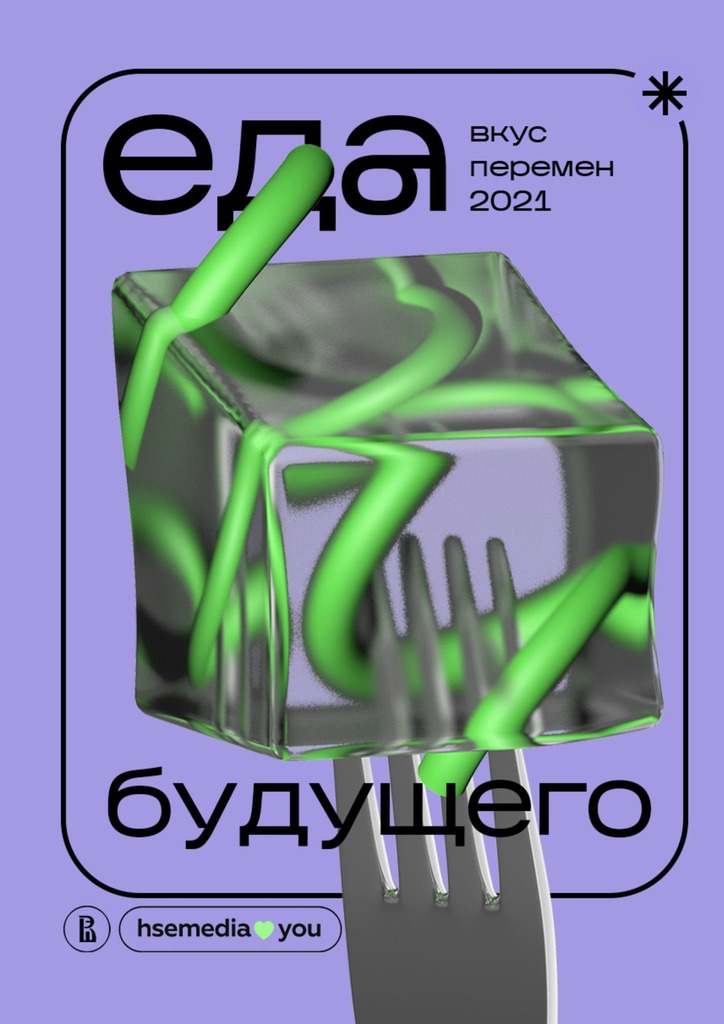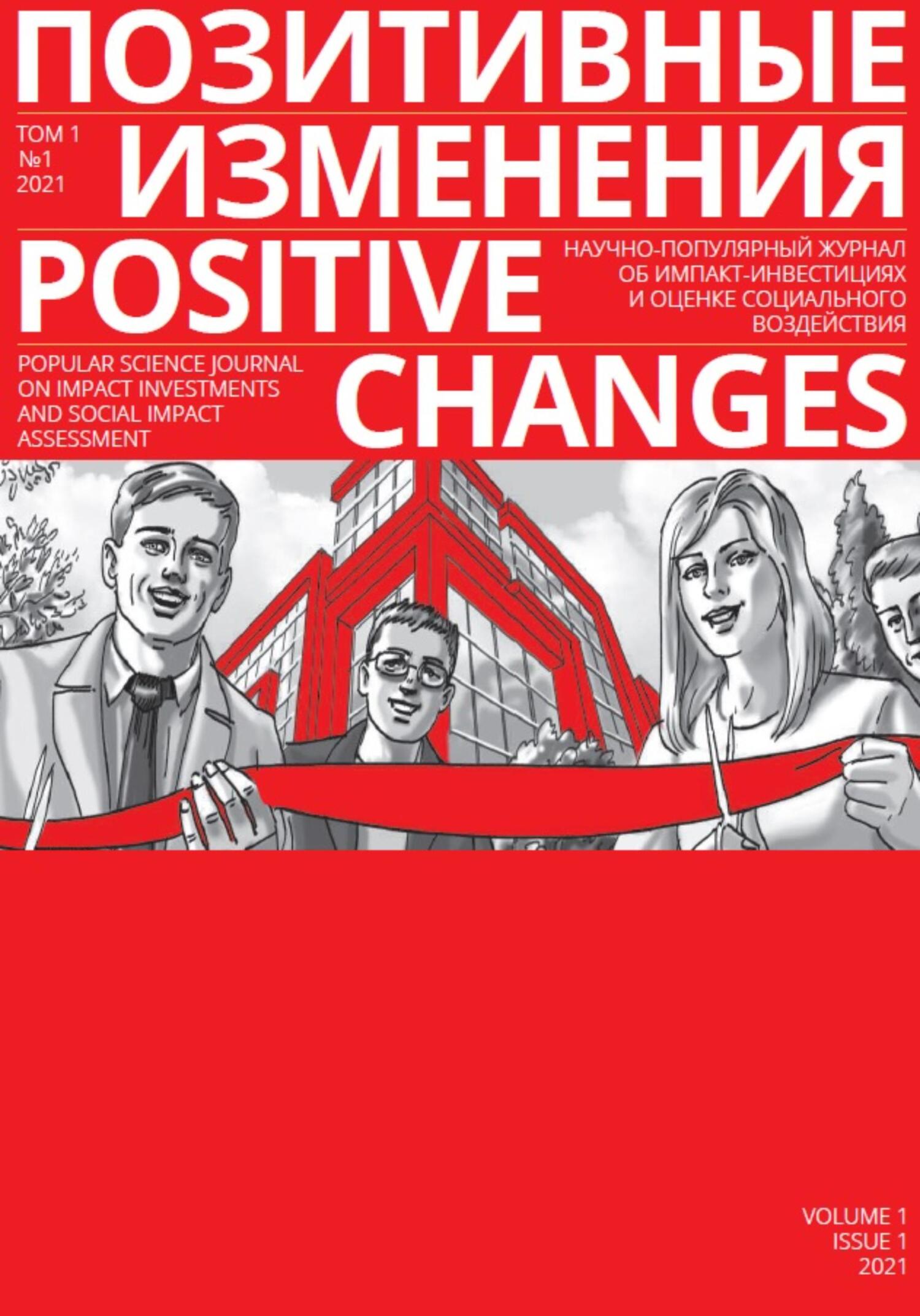– то работа допоздна, то собрание, то командировка, как вдруг, наконец-то…
Вот-вот появится электровоз. Сейчас-сейчас. Точно-точно. Они смотрят. Толкаются, выглядывают из-за рукавов. Электропоезд никак не едет, но вы не волнуйтесь, еще минутку.
Два рассказа составляют сборник «Явь и бесплодная мечта» – тоненький, как рождественская облатка, хотя и в тканевом переплете. Год издания – 1966-й. Я читаю эту «Мечту» вместо того, чтобы ее паковать. Есть что-то нечестное в идее второй раз войти в ту же реку, обратиться к приемам родом из местечкового шмонцеса (49), воспользоваться остротами из довоенного кабаре, чтобы поведать историю старого еврея в гомулковской Варшаве. Слонимский (50) написал этот рассказ в шестидесятых.
На закате коммунизма рассказ экранизировали. В главной роли выступил актер (51), который всегда играл евреев в послевоенных фильмах. У всех раввинов, купцов, промышленников, врачей, адвокатов, администраторов гостиниц и еврейских портных, появлявшихся в польском кинематографе, был один и тот же голос и одно и то же лицо. В детстве я думал, что это единственное разрешенное еврейское лицо. Все, кто хотел им воспользоваться, должны были заранее оговаривать сроки.
Это было лицо автора «Цветов Польши» (52). Актер унаследовал его от дяди. Стоило ему мелькнуть на улице или на экране – неся свой драгоценный и хрупкий нос – родители говорили: «Брат Тувима» и «Похожи, как две капли воды». Тогда я думал, что это распространенное определение, что-то вроде эвфемизма. Все евреи – братья Тувима.
В экранизации среди прочих появлялся Мессия. Найти еврея соответствующего возраста не удалось, поэтому в этой роли выступил какой-то армянин.
Ключевая в рассказе о Мессии – сцена с портным Райземаном («который теперь Дубенский и живет на улице Згода, которая теперь Хибнера»).
Райземан гладит брюки доктора Валицко-го («Его зовут Вайнштайн, но он всегда был таким паном-шляхтичем») – и прожигает в этих брюках, сшитых из вверенного ему заграничного материала, в брюках своего последнего клиента, огромную дыру. И тогда происходит чудо. Мессия поворачивает события вспять. Действие идет в обратном порядке: дыра превращается в обожженный след, темное пятнышко, еле заметную черточку и наконец исчезает.
«И когда я вернулся, брюки были целыми и невредимыми, и когда я стоял в дверях, был мне голос: ЗЕ ХАЯ ЙОТЕР МИДАЙ – что зна-чит: „Это уж слишком“», – говорит портной.
По большому счету все хотели в это верить. Что это уж слишком. Что не оба же раза. Что в воронке от снаряда безопаснее всего. Что квота бед и катастроф исчерпана, может, не навсегда, но надолго. Нам еще рано беспокоиться.
Со временем мы утверждались в убеждении, будто бежим в будущее, как обычно бегают к учительнице, чтобы наябедничать. А она нас выслушает, отругает обидчиков, велит им извиниться и пообещать, что это в последний раз.
Но в школе учили теории вероятностей. Говорили, что «орел» или «решка» не зависят от того, что выпало раньше. Каждый раз все повторяется. Пятьдесят на пятьдесят. Пан или пропал. Только в тетради по математике я увидел жизнь как цепочку независимых друг от друга событий, очередность повторов, каждый из которых говорит: «Ничего на вас с неба не свалится». И я испугался.
Мы пошли с родителями на какой-то исторический фильм – что-то о сталинизме, эпохе «ошибок и заблуждений».
– А сегодня тоже так могут? – спросил я после сеанса.
– Нет, – успокоил меня отец и после паузы добавил: – Придумают что-нибудь новенькое.
И захохотал, потому что за устрашение в нашей семье отвечал не он.
Нужно нанять кого-то, кто смог бы вести церемонию прощания, говорил бы хорошо поставленным голосом «сегодня мы прощаемся», «а теперь пройдем к могиле», и чтобы все было как надо.
– Я покажу вам его в интернете, – кликает сотрудница.
Мы внимательно просматриваем результаты поиска в гугле. На всех фотографиях похороны, белые лилии и толпы людей. Я пытаюсь разглядеть, не повторяется ли какое-нибудь из лиц.
– Вот он, в стихаре. Очень достойно ведет.
– Ладно, пусть будет он.
– Только есть один нюанс, предупреждаю. Не каждому же угодишь, ведь правда?
– Нюанс?
– Он уже так не выглядит. Красивый парень, совершенно не понимаю, зачем он это сделал.
– Татуировка?
– Волосы.
– Длинные?
– До плеч, но чистые. Использует какой-то кондиционер, кстати, нужно бы спросить какой.
– Мы бы предпочли кого-нибудь другого.
– Ну тогда я могу предложить женщину.
– Церемониймейстершу?
– Жену церемониймейстера. Он пишет, а ведут они по очереди.
Мы согласны. Сотрудница склоняется и задает последний вопрос:
– А что с музыкой? Церемония светская… Но «Ave Maria» вы тоже не приемлете?
Через несколько дней церемониймейстер присылает вариант похоронной речи:
Мы собрались сегодня в этих стенах, чтобы попрощаться с пани Иоанной и своим присутствием поддержать ее близких в этот трудный день. Пани Иоанна оставила след в жизни многих: кому-то подруга, приветливая соседка, коллега, первоклассный специалист в своей области… Для родных – любимая мама, бабушка, сестра и тетя… незаменимый член семьи.
Все школьные годы мама проверяла мои сочинения. Вычеркивала слишком очевидные прилагательные. Охотилась на избитые фразеологизмы.
В «сценарии траурной церемонии» слова ходят парами, как ученики в танцевальной школе: приветливая соседка, первоклассный специалист, незаменимый член.
Поначалу меня даже подмывало согласиться. Я все еще злюсь на нее. Но все-таки есть какие-то границы. Неужели я позволю, чтобы чужой человек говорил о матери «незаменимый член»? Или даже «приветливая соседка»? Не хватало еще добавить, что она всегда здоровалась в подъезде. Так говорят по телевизору о серийных убийцах.
Я пишу свою версию. Даже не то чтобы пишу. Собираю воспоминания у друзей (она всегда пвторяла, что друзья важнее всего), у родственников. У взрослых и детей. Раскисаю только раз. Когда читаю имейл:
Она уважала каждого пациента, независимо от возраста. Это касалось также маленьких детей, которым она посвящала много внимания и старалась говорить с ними «на их уровне». Ее глаза всегда были на уровне глаз ребенка. Когда ее стали донимать боли в позвоночнике и она не могла нагибаться и сидеть на детском стульчике, – прежде всего отказалась от работы с дошкольниками, потому что не могла больше следовать этому принципу.
Прошло несколько недель. С могилы уже убрали цветы и свечи, как вдруг звонит церемониймейстерша.
– Я хотела поблагодарить вашу маму, – начинает она, и даже по телефону у нее действительно приятный голос, – передать вам мою благодарность доктору Иоанне.
– Она не была врачом, – отвечаю я.
– Конечно, мне не посчастливилось знать ее лично – думаю, в нашем