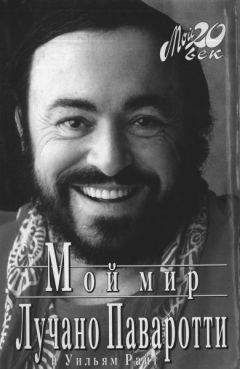Небрежным касаньем руки говорю – извини.
Я сам по себе, ты сама… Вот такая ботаника.
Привычный удар топора, ты пропала, я – пан.
Зима. За стеною снежинок растрёпанных паника.
В печи безупречно красив твой разрубленный стан.
ЛЕТНИЙ САД
Букет оркестра музыкой желтел,
Чем был похож на осени придаток.
Над Летним садом сумрак тяжелел.
Гуляли: кто с женою, кто – поддатый.
Вот так бы жизнь, как музыка, текла.
Взгляни, осталось в солнечном колодце
Для нас двоих на донышке тепла.
Поднимем глаз холодные болотца,
Заглянем в небеса, в покой их черт.
Зачем они от нас так отдалённы?
Поймём ли мы хоть что-то, прежде чем
Сойдём в могилу спального района?
* * *
Я к тебе обращаюсь на «вы»,
Будто не было долго и часто
Непонятного детского счастья
Под мечтательный шёпот Невы.
И не мы на растрёпанный дождь
В забытьи натыкались с размаху.
Не над нами, как чокнутый знахарь,
Колдовала любовная дрожь.
И не нам заменяла кровать
Шелестящая грудь сеновала.
И как будто не ты целовала
Так, как можешь лишь ты целовать.
Нет, не стала ты тем дорогим,
С чем душа породниться б мечтала.
Потому что всегда было мало
Мне того, что хватало другим.
* * *
Мы ломали комедию, словно детишки игрушки.
По квартире клубились слова, будто пух из подушки.
Веселясь, разбросали семейного счастья конструктор,
И дивились, как падали на пол детали со стуком.
Ты сломала машинки, а я – всех напудренных кукол.
Даже кот не лизал ничего, только грустно мяукал.
Что осталось? От куклы нога и фрагмент ягодицы.
И пружинка в кармане, которая не пригодится.
* * *
Воздушный змей перегрызает леску,
Свободой неосознанно влеком.
И вот она с неуловимым треском
Ему дарует небо целиком.
И у него распутный ветер в штате.
Ему плевать, что он – папье-маше,
Пяток гвоздей, гнилой оконный штапик.
Восторг его толкает вверх взашей.
Он обернётся вниз, неотразимый,
Какой пустяк, что в пыльном далеке
Ребёнок превращается в слезинку,
Бегущую по луговой щеке.
* * *
Стихом застигнутый врасплох
У здания столовой,
Я делаю обычный вдох,
А выдыхаю – слово.
Не в предвкушении котлет
Раззявлен рот корытом –
Меня в ребро толкает Фет
Сверкающим копытом.
Не жди меня, моё рагу,
Не жди, компот бесплатный.
Здесь муза пляшет на снегу,
Босая и без платья.
Когда бурлит духовный пир,
Не думаешь о теле…
Но всё-таки: двойной гарнир
И две, нет, три тефтели!
В чёрный день просила хлеба
Екатерина ЯКОВЛЕВА,
МУРМАНСК
* * *
Старый дом у реки, где на привязи лодка
Дремлет, носом зарывшись в белёсый песок,
На поленнице кот изогнулся как скобка,
И от солнца горяч его бархатный бок.
Он тягуч, как смола, вечер праздный и длинный,
И купаются мухи в ведре с молоком,
Между рамами окон краснеет калина,
И притихла гармонь под цветным рушником.
Поглядишь – тяжелеют ресницы от влаги,
Вдруг поймёшь, что все истины мира – просты...
Как светло оттого, что из белой бумаги
Распустились на старой иконе цветы...
Во дворе пахнет сладостно скошенной мятой,
Тонконогая лошадь вдали на меже,
Я была здесь такою счастливой когда-то...
Здесь теперь меня нет. И не будет уже.
* * *
В чёрный день просила хлеба
Я на паперти.
И послал мне старец с неба
Стол со скатертью.
И отрезал половину
Хлеба свежего.
Бес меня толкает в спину
Зло и бешено!
Добрый хлеб тот отодвинув –
Обесценила.
«Мне не нужно половину.
Дай мне целое!»
Небо мне – как на замочки
Дверь закрытая...
Молвил старец:
«Что ж ты, дочка?
Видно, сытая...»
И исчез – как будто не был,
Только видится:
Белый снег, как крошки хлеба,
С неба сыпется...
* * *
Пролистали последние главы
Года старого, заперли дверь.
Ради нашей с тобою забавы
Лишена жизни юная ель.
Поутру разбредаются гости,
Свечи слепнут, допито вино.
Только ветер зашёлся от злости,
Горсти снега швыряя в окно.
Мы же чуда не ждали, не так ли?
Не признаюсь, и ты промолчи...
Мы с тобой в этом глупом спектакле
Так бездарно сыграли в ночи!
Осыпается тёмная хвоя,
Отгорел фейерверков пожар...
От глухого предчувствия горя
Бьётся вдребезги ёлочный шар...
* * *
От чувства счастья просыпаться,
Всех прежде зорь, всех раньше птиц
Ступнями чуткими касаться
Скрипучих тёплых половиц.
Прильнуть к окну, где скоро былью
Рассвету стать – ликуй, встречай...
И видеть: опадает пылью
Увядший в вазе Иван-чай.
* * *
Понемногу уходишь.
Не сразу, а так –
Всё по капле одной, по крупице.
Свет идёт за тобой, опускается мрак
И слетаются снов вереницы.
Ты уходишь.
Угрюма безмолвная рать
Твоих книг на моей пыльной полке,
С каждым днём всё трудней в простынях отыскать
Мне твой запах смородинный, тонкий.
Не препятствую.
Только смотрю не дыша:
Отступает тепло постепенно.
Так, должно быть, уходит из тела душа,
Или кровь утекает из вены...
Не позволишь надежде дурачить меня
И подаришь билет на забвение...
Жить на ощупь отныне до крайнего дня,
Мы теряем любовь, словно зрение.
* * *
Маленький любимый человек,
Чьи глаза не устают светиться,
В жизни первый раз увидев снег,
Хочет им со мною поделиться.
Крепко мокрой варежкой схватив
За руку меня, идёт, несмелый,
Мы молчим, дыханье затаив,
Будто сон нам снится белый-белый.
Не могу сдержать счастливых слёз,
Видно, я была совсем слепая..
Мимо этих сказочных берёз
Раньше шла я, их не замечая.
Белый снег, как ангела крыло,
Белый цвет сейчас всех красок ярче,
Я учусь у сына своего
Видеть этот мир совсем иначе.
Бог всесильный время подарил,
С лёгкостью перевернув рукою,
Как часы песочные, весь мир,
Перед вновь прозревшею душою.
Плакали чайкиОтрывок из повести
Литература / Литература / Россия неизвестная
Антипин Андрей
Теги: современная проза
В последнее время Иван Матвеевич не признавал в теперешней жизни своё, родное: будто вернулся после разлуки, а дом постыл, не радуют ребятишки, не ласкает жена… Либо сама жизнь пошла дугой, либо он весь проигрался и ходит под небом, как под игом?
Эту мысль он выбрал однажды, словно перемёт из реки, и с той поры не знал, чему верить.
Он и раньше-то не пил – выпивал, тут же и вовсе прижёг болячку и даже по субботам не мордовал Таисию, не обращал её внимание на нужды рабочего класса. Но и когда всё же подступал повод – привезут ли дрова, а не то с пенсии слупит сотенную или, как нынче, ударит святой праздник, – то не было на сердце отрады, ровно клевал потравленное зерно.
– Да, выжучил ты, Иван Матвеевич, свою цистерну! – с грустным смешком опрокидывал стопку кверху донышком, к неверной радости Таисии.
Тошно, хоть в петлю лезь!
Но, разобраться, как ей, жизни, всю дорогу быть одной и той же, идти долгий путь, да не сбить каблуков, выгорать под солнцем и радовать юным зеленоватым цветом? Это в советскую пору завозили в магазин ткань, бабы тянули её с деревянного веретёнца, продавщица чиркала мелком, пластала кривым ножом – и плыли бабы в одних платьях, друг перед дружкой выставлялись… Чем форсили, глупые?
…Лошадь, от мошки и слепней завалясь в траву, так же катается, хрипит и бьёт ногами, как душа Ивана Матвеевича, жалимая думками.
С уходом старухи он облачился в болоньевую, облепленную мелкой ельцовой чешуёй куртку, в петлицы которой были продеты капроновые поводки с крючками, обул закатанные в коленах бродни, снятые со штакетника, и с ведёрком пошёл проверять на реку закидушки.
Весна упала ранняя, в начале апреля подскребая у дровяника щепу. Иван Матвеевич ушам не поверил: из тёмного клубистого неба с треском, будто сломив шифер на крышах, ударил первый гром! Но допрежь прохлестал сильный дождь, до трупной синевы вспухла река, раскатились от берега вымоины, хлынула чёрная грунтовая вода. На Вербницу сломало лёд, поволокло, кроша, загребая камни. До угора доплескала вода, в иные дворы зашла с огородов, залила ямы. На том успокоилась, покатилась вниз и, точно являя черту, до которой могла отступить, встала на полпути к руслу, держа при себе нижнюю, береговую дорогу, отделив старое село от главного посёлка, где почта, школа, больница и всё на свете.

![Владимир Царицын - Зов Орианы. Книга первая. В паутине Экора. [СИ]](https://cdn.my-library.info/books/101705/101705.jpg)