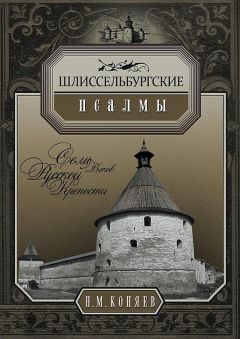– Вышла она в 60-м…
– В 60-м году первое издание вышло. Какую-то часть работы я ему показал, ему понравилось, он написал письмо – там была чудная фраза: что в этой статье много лестного для меня, но вряд ли она из-за своего названия попадёт в печать. А название было такое: «Мне дорог мир большой и трудный». Это строчка из его стихов.
– А вы на фронте стихи писали или вам не до рифм было?
– Писал, но я их не печатал. Помню такую строчку: «И лежат позади, словно мёртвые змеи, хитроумные линии вражьих окопов», – это когда было наступление на Смоленщине. Но я довольно быстро – хотя какое-то время продолжал писать стихи – почти целиком ушёл в литературную критику. Было много всего, о чем мне хотелось написать, в какие-то споры вмешаться.
– Как вы встретили победу?
– 9 мая я встретил на госпитальной койке в Камышине – раненных, нас привезли в этот волжский городок.
– А где ранило?
– В Польше, в городе Жешув.
– Потом вы вернулись в Москву, к мирной жизни. И продолжили учебу?
– Да. Была целая эпопея, когда меня сначала не хотели восстанавливать в Литинституте, потому что возглавлял его теперь позабытый писатель Фёдор Гладков…
– Автор «Цемента»?
– Совершенно верно. У него была такая мысль, немножко похожая… Помните, в европейской литературе было «потерянное поколение» после Первой мировой войны?
– Гертруда Стайн его, кажется, так назвала.
– Да. И по-моему, Гладков рассуждал так же. Он считал, что и у нас появится поколение, которое войной искалечено, испорчено, которое будет писать вещи, не соответствующие тому, что нужно… Когда спросили: «Что вы делали это время?» – я стихи свои предъявил, а у него был один подручный рецензент (подручный – в смысле из того же круга, что и он сам), который придрался к строчке о погибшей в Ленинграде девочке: она упала, лежит, и у неё «грудь приподнял ранца горб». В отзыве же сказано, что вот у меня в прошлом «горб солдатского ранца». То есть просто передержка, как вы понимаете, самая настоящая. Мне приписали пессимистический взгляд на литературу. Но за меня заступился профессор Реформатский…
– А Сельвинский?
– Нет, Сельвинский в этот момент, не помню даже, работал ли в Литинституте, у меня не было с ним никаких близких отношений. После был момент, в 60-х, когда мы вместе семинар вели, но я был у него так, на подхвате. Реформатский же обратился к одному из своих знакомых, хотя он этого знакомого в 20-е годы жестоко критиковал за какую-то теоретическую книжку, но по его рекомендации меня все-таки приняли обратно. Хотя как можно не принять человека, который вернулся с войны?!
– А что это за человек, которого критиковал Реформатский, но который в итоге обеспечил благоприятный исход?
– Это был Михаил Степанович Григорьев, не очень видный театральный критик и литературовед, работавший в Министерстве высшей школы.
– Кто мастером стал?
– Сначала, пока я стихи писал, мастером был Владимир Александрович Луговской, позже я написал о нём небольшую книгу.
– Это уже когда восстановились?
– Да, а потом, когда я в основном стал заниматься критикой, у нас был семинар, которым руководила Вера Васильевна Смирнова.
– Почему перешли с поэзии на критику?
– Мне просто стало казаться… У нас был довольно дружный курс, ко мне относились очень хорошо, но я чувствовал какой-то холодок к моим стихам. Как-то я почувствовал, что не то выбрал.
– Вы же тогда понимали, то, что критик – это не всегда в прямом смысле критик, а иногда – орудие сведения счетов каких-то, инструмент пропаганды?
– Слава богу, это меня миновало. В каких-то кампаниях если я позже и участвовал, то, смешно сказать, скорее объектом критики, чем субъектом. Вы знаете, у меня были знакомые, которые при самых тяжелых условиях сохранили всё-таки… мало сказать хладнокровие, но я бы сказал даже благородство. Здесь для меня тоже каким-то ориентиром был Александр Трифонович Твардовский с его этой фразой в первой же главе «Теркина»: «А всего иного пуще / Не прожить наверняка – / Без чего? Без правды сущей, / Правды, прямо в душу бьющей, / Да была б она погуще, / Как бы ни была горька». Я даже думаю, грешным делом, что некоторое предрасположение к тому, чтобы, громко говоря, от всего сердца принять эти строчки и в какой-то степени сделать их для себя правилом, было у меня если не отродясь, то довольно рано. Почему так – не знаю. Может быть, у меня были какие-то очень симпатичные люди среди родственников, которые честно прожили свою жизнь…
– Но семья, кстати, интеллигентская?
– В общем – да. Хотя дед Осип Ефимович вышел из крестьянства, довольно жёсткий был человек, прошедший Первую мировую, раненный, служивший потом в белой армии, дальше след его потерялся. А среди других моих ближайших родственников было несколько человек очень хороших врачей, очень хороших. Вот мой дядя Николай Краевский – я упоминал, что от него узнал про начало войны – потом стал академиком медицины. Профессия у него была довольно страшноватая. Он был патологоанатом. Так что позже посмеивались, что я тоже немножко близок к этой профессии… в литературе. (Смеётся.)
– Литературный институт вы окончили в 50-м. В 48-м первая публикация была, верно?
– Первая публикация была на войне, в какой-то момент меня хотели взять в редакцию армейской газеты – не отпустили. Я там написал о том, что видел в Финляндии, на Выборгском направлении. Финны отходили, и я нашёл барак, в котором содержались наши военнопленные, их уже угнали. И меня поразили надписи, сохранившиеся на стенах. Записал свои впечатления, и это была моя первая публикация, июнь 44-й год. А потом в 48-м году у меня была статья в украинской запорожской газете к юбилею Маяковского. Я как раз тогда работал внештатным лектором и экскурсоводом в Музее Маяковского в Москве, в старом его помещении в Гендриковом переулке. И кто-то из редакции той газеты попросил написать юбилейную статью. Я написал. Они напечатали.
– Маяковского любили вообще?
– Увлекался им одно время. В общем, так я уже начал писать какие-то критические заметки…
– В 50-м вы окончили Литинститут. Для вас как критика уже тогда – дело же было после войны, и вы войну прошли – наибольший интерес представляла фронтовая поэзия?
– Не только. Но это особенно, действительно. И я до сей поры продолжаю время от времени писать об авторах тех времён. В «Новом мире» же я напечатался в первый раз еще в 50-м году, сразу после окончания института, с какой-то небольшой рецензушкой. А вскоре я стал печататься там регулярно.
– И он как главред вас заметил? Он же просматривал всё…
– Ну да. Знаю, что он заметил одну из моих первых статей. Какая-то рецензия, но на довольно принципиальную тему. Это мне рассказал его тогдашний зам, Сергей Сергеевич Смирнов, помните? Тот самый, который писал о Брестской крепости, очеркист.
– Подведём черту: в какие годы вы с Твардовским наиболее тесно работали?
– Знаете, я всегда возражаю, когда меня называют чуть ли не сподвижником Твардовского. Я просто знаю, что… ну, он меня печатал охотно. Был, правда, один случай, когда ему одна моя статья, о прозаике Валентине Овечкине, не понравилась, и справедливо совершенно. А так почти на всём протяжении времени, пока он не был вынужден уйти в 70-м году из журнала, я печатался там, наверное, ежегодно.
– И последний вопрос: есть ли сейчас поле деятельности для критика? Есть ли критика вообще?
– Знаете, я сейчас на современную критику смотрю менее внимательно, как и на современную литературу… И всегда говорю, что я если не человек девятнадцатого, то уж точно двадцатого века. Потому что какие-то люди, особенно мне дорогие и интересные, они все «оттуда», из той эпохи.
– Сейчас равновеликих им нет?
– Ну, на мой очень субъективный взгляд.
– А критик может быть субъективным? Если у него есть аргументы?
– Должен! Иначе невозможно.
Беседу вёл Владимир АРТАМОНОВ
Поминальная свеча
Литература / Литература / Свет великой Победы
Бобров Александр
Теги: Александр Бобров , Звезда над озёрами
Александр Бобров. Звезда над озёрами. – СПб.: НППЛ «Родные просторы», 2016. – 267 с. – 500 экз.
Александр Бобров рассказывает о том, как он разыскивал погибшего в войну старшего брата Николая и его сбитый фашистами самолёт, и о своей книге, посвящённой Герою Советского Союза Николаю Боброву.