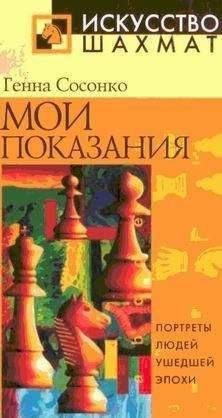Судьба наделила его беспошлинно и талантами, и здоровьем; он развил свои таланты, но здоровье подвергал длительному и систематическому разрушению. Перебои начались в 1982 году буквально за день до поездки в Испанию на зональный турнир. Доктор в Амстердаме констатировал на скорую руку легкий грипп, но в Марбелье испанский врач пришел к совсем другому диагнозу. С тяжелой головой и непреходящей усталостью Доннер все-таки начал турнир. Когда совсем стало невмоготу, он решил применить крайнюю меру: «Я прибегнул к самому сильному лекарству, какое мне было известно, панацее от всех болезней физического и психического порядка. Невозможному и неописуемому. Я бросил курить». Но и это мало помогло. У Доннера начались проблемы с моторикой и координацией, и, хотя он еще продолжал шутить: «У официантов в ресторане гостиницы я прохожу под именем "этот датчанин из 801 номера, который пьян уже во время завтрака"», состояние его было слишком серьезно для шуток.
Он не хотел сдаваться, но и чемпионат страны, и турнир в Амстердаме закончил в минусе. Несколько раз во время прогулок в парке Вондела он терял сознание, и дочь Доннера должна была бежать домой за помощью. Ее звали так же, как и жену Хейна, — Марьяна. «Если мне понадобится кто-нибудь из них, - говорил Доннер, — я крикну: «Марьяна!», и на всякий случай прибегут обе...» Но сейчас он, беспомощный, лежал на траве и не мог позвать никого из близких. Доктора настаивали на операции, но Хейн не привык слушаться кого бы то ни было, тем более докторов.
Несчастье произошло 24 августа 1983 года Кровоизлияние в мозг было настолько сильным, что некоторое время врачи опасались за его жизнь. Спасти Доннера удалось, но он не мог больше ни говорить, ни ходить, он глотал с большим трудом, оглох на одно ухо, и у него двоилось в глазах.
Восстановительный период продлился больше года. Этот огромный человек снова, как ребенок, должен был учиться ходить и говорить. К нему частично вернулась речь, но восстановить контроль над телом не удалось и передвигаться он мог только в инвалидной коляске. На дальнейшее улучшение не приходилось надеяться. «Совершенно бесполезно желать мне поправки», - говорил он тем, кто произносил общепринятые слова. За ним требовался постоянный уход, и до конца своих дней Доннер должен был жить в доме, населенном такими же инвалидами, большинство которых было много старше его. Впервые после далекого гаагского периода его жизнь стала упорядоченной, но заплатил он за этот порядок страшной ценой.
Он не мог больше читать. Раньше Доннер писал всегда от руки, но теперь не мог этого делать и после долгих упражнений научился печатать на машинке одним пальцем. Он начал с простейших слов, но и они потребовали от него неимоверных усилий. «Ода моей учительнице машинописи» — называется одно из его первых упражнений. Вот оно: «дом дом дом дом окно окно окно окно дерево дерево дерево дерево четыре четыре четыре четыре сердце сердце сердце сердце пламя пламя пламя пламя».
Хейн стал вести еженедельную рубрику в одной из самых престижных голландских газет. В этих коротких эссе он писал о старости и разрушении организма, о маразме обитателей этого дома. Он писал о зависимости от обслуживающего персонала, о девяностодвухлетней старушке, которая может издавать только короткие звуки пип-пип-пип, о панике, охватывающей его самого, если ему не удается самостоятельно из коляски переместиться в ванну. О специальном лифте для инвалидов, в котором слышал на днях, как сидящий в такой же коляске, как и он сам, восьмидесятипятилетний старик на вопрос молоденькой и очень хорошенькой медсестры: «Вам какой этаж?» — ответил: «Я выйду вместе с вами». Красавица стала извиняться, что она еще никогда не встречалась с такими старыми джентльменами и что сегодня она кончает довольно поздно, чем развеселила ужасно Доннера.
Это трогательные истории, в которых с откровенностью, далекой от какой бы то ни было сентиментальности, он рассказывал о положении, в котором оказался. «Наверное, я единственный человек в мире, который сидит в доме для маразматиков и пишет для газеты. Я — стопроцентный инвалид и стопроцентно нормальный человек. Это проблема, которая сестер в этом доме сводит сума», — писал Доннер. Короткие эссе-зарисовки были изданы отдельной книгой под названием «Написано после моей смерти», и книга эта получила в Голландии литературную премию года.
Внушительный том из лучшего, написанного Доннером на шахматную тему, вышел за год до его смерти, и он сам в инвалидной коляске и с повязкой на глазу присутствовал на презентации книги в Городском музее Амстердама. Первый экземпляр был преподнесен Доннеру его старым другом Гарри Муличем, заключившим свою речь словами: «Боги сбросили на твою голову мраморную глыбу. Хотя полностью оправиться ты не смог, уничтожить тебя им тоже не удалось. Ты стал для всех нас моральным примером. Я знаю, что я всегда видел в тебе: человека, который победил собственное тело. Я понимаю теперь, почему эта книга называется «Король». Король, который стоит на обложке, - это ты, Хейн!»
На первый взгляд речь в книге идет о шахматах и шахматистах; здесь и там встречающиеся диаграммы и ходы шахматной нотации, казалось бы, подтверждают это. В действительности же книга является блистательным, полным самоиронии автопортретом бесстрашного и веселого человека, для которого шахматы были не суррогатом человеческих отношений, а эмоциями жизни, перенесенными на черно-белую доску.
На пятом этаже находится большой зал, где стоят инвалидные коляски. Сидящие в них смотрят в одну точку, чаще спят, с головой, склоненной набок, реже решают кроссворд, еще реже читают книгу. Тишина, прерываемая, только когда из близлежащих комнат доносится чей-то зов, призывающий сестру на помощь. Если пройти по коридору немножко дальше - комната Хейна.
Звучит ужасно — знаю, — но я люблю бывать здесь. Выйдя отсюда на улицу, понимаешь относительность собственных проблем; казавшиеся еще час назад такими важными, они уходят куда-то, съеживаясь до размеров наперстка. Все заботы как будто вымываются из тебя, и — так уж устроен человек — какое-то похожее на счастье чувство поднимается со дна души: но мы-то - живы! Живы и просто идем по улице и смотрим на облака, и обладаем всем, по сравнению с обитателями дома, из которого только что вышли. Всем.
Он много спит, по вечерам смотрит телевизор. Каждую неделю выстукивает свою колонку. Часто просто смотрит на улицу; иногда в окне напротив он видит госпожу Эйве: это квартира, в которой последние двадцать лет жил бывший чемпион мира. Госпожа Эйве написала ему письмо, в котором советовала в его теперешнем положении подумать о христианстве. Ответ Доннера был краток: «Дорогая госпожа Эйве, вы правы, но Бога не существует».
Дверь в его комнату открыта, сейчас он один, в своей коляске. У него черная повязка на глазу, иначе всё, на что он смотрит, будет иметь двойное изображение. Она придает ему сходство со старым пиратом. На столе шахматы, начатая плитка шоколада. Я достаю еще одну. Он говорит с трудом. Его речь напоминает звук истертой граммофонной пластинки, которую к тому же время от времени заедает.
«Тт-ы... плл-охо... игг-рал...Вей-ккан...Зее...в...эт-ом... гг-оду», - переходит он с места в карьер. «Что ты сказал?» — «Ты... пл-охо...игграл...в... Вейк-ккан-Зее... в этом ггоду», — повторяет он. «Что? Что ты говоришь?» Хейн напрягся: «Тты плохо играл в.. .Вейк-ан-Зее в этом ггоду...» - «Ничего не понимаю...» Хейн смеется и машет на меня рукой.
Он очень любил животных и в своей прошлой жизни часто бывал с маленькой дочкой в «Артисе» - чудесном амстердамском зоопарке. Когда он сидит в коляске, то напоминает старую каракатицу, жившую когда-то в огромном аквариуме «Артиса» и описанную им самим: «Прямо налево в аквариуме всегда лежала каракатица, которую дети очень любили. Это было очень нескладное существо, проплывавшее, изгибаясь, как облачко, из одного конца аквариума в другой. Но когда она путешествовала по дну аквариума, она могла, неожиданно сжавшись, совершенно уйти в себя, как будто споткнулась о камень или хочет сделать что-то, чего ей никак не удается. Ее щупальца тогда начинали вращаться, как колеса, быстро и непонятно, до тех пор, пока она не выходила из этого состояния собственных объятий и не совершала прыжок в высоты аквариума, с тем чтобы снова начать свое изящное перемещение в воде. Это сочетание беспомощности и величественной грации делало из нее то, что мы называем "талантом "».
Иногда во время посещения он вдруг говорит резко: «А сейчас я буду есть». Это означает, что твой визит окончен и ты можешь идти: Хейн предпочитал есть в одиночестве, потому что любой физический процесс был труден для него.
Но, приговоренный к бессрочному заключению в продырявленной во многих местах собственной телесной оболочке, он никогда не жаловался, и не потому, что жаловаться - это задавать вопросы и ждать ответа, а он привык отвечать на вопросы, а не задавать их; просто он прекрасно знал, что в его положении нет ответов на эти вопросы.