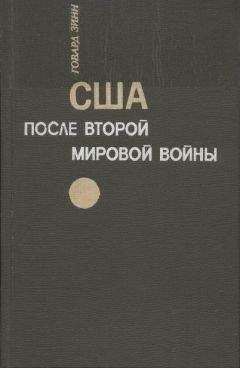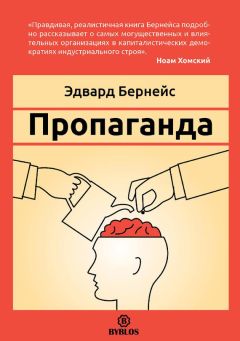испытывала особое отвращение к шепоту и страдательным причастиям). Однажды случилась катастрофа – огромная дамба, удерживавшая воду около оврага в Бабьем Яре, разрушилась, и часть Киева оказалась под водой. Поток смывал трамваи и целые дома. Кто-то сейчас говорит, что погибли сотни людей, кто-то – что тысячи. Точно не знает никто: любые слухи об этом событии пресекались людьми «из органов», а публичные выражения скорби были запрещены. Но наводнение напомнило о другой замалчиваемой катастрофе. Именно в Бабьем Яре во время войны нацисты при содействии местных коллаборационистов убили несколько тысяч евреев. Об этом предпочитали не упоминать, храня нерушимое молчание.
В университете к Лине начали попадать первые запрещенные книги. Наконец кто-то начал говорить о том, что так долго замалчивалось. В небольшом кружке друзей моего будущего отца, Игоря, люди говорили то, что думали, не переходя на шепот. Они обменивались запрещенными текстами, напечатанными на дешевой бумаге. К ним приклеивали картонные обложки, а затем передавали друг другу в коробках из-под обуви.
Однажды вечером, за год до ареста Игоря, Лина пришла домой с обувной коробкой, в которой лежал «Архипелаг ГУЛАГ» Солженицына. Она держала ее под мышкой. Повернувшись, чтобы снять плащ, она заметила в отражении зеркала, висевшего в прихожей, взгляд прабабушки Цили, жившей в комнате напротив. Та внимательно посмотрела на Лину одним здоровым глазом, и, видимо, что-то в поведении моей матери выдало ее в ту же секунду. «Эсфирь! – закричала прабабушка. – Ребенок принес домой запрещенную литературу».
Эсфирь вбежала в комнату моей матери и угрожающе нависла над ней. «Думаешь, ты такая смелая? Дай-ка я объясню, что с тобой сделают. Тебя поведут по длинному темному коридору. Бросят в крошечную камеру. Закроют за тобой тяжелую дверь и повернут ключ в замке».
А затем Эсфирь издала гортанный звук, словно кто-то поворачивает какую-то огромную ржавую махину туда-сюда. Этот звук заставил мою мать сжаться от ужаса. Даже много лет спустя она не могла понять, как Эсфирь это удалось, какому напряжению нужно было подвергнуть свою гортань и связки, чтобы ей, Лине, передалось ощущение металла, ломающего человеческую волю.
Тем же вечером Лина унесла обувную коробку из дома. Мать впервые так прямо заговорила с ней об обратной стороне советской реальности: тюрьмах, арестах по вымышленным обвинениями и допросах, о которых все знали, но никогда не обсуждали.
«Может быть, с моей стороны это слишком жестоко, но я не могу подобрать никакого другого слова, кроме „предательство“, когда думаю о тех, кто был взрослым во времена моего детства и юности», – писал позднее Игорь в эссе под названием «Право читать».
«Я чувствую себя преданным своими учителями. Я не разу не слышал ни от одного учителя слова правды про трагедию моей Родины.
Я чувствую, будто предал сам себя. Почему я верил на слово учителям и газетам? Почему я до 26 лет так долго шел к открытому выступлению в защиту моих соотечественников, посаженных за решетку, за колючую проволоку, за высокие стены психбольниц из-за своей способности думать и выражать свои мысли вслух?
Хотя я и любил своих родителей, мне казалось, что и они меня предали. Хотя бы дома они могли бы ради своих детей вести себя достойно и честно.
И лишь книги, только книги никогда не предавали меня… Я считаю любую талантливую литературу антисоветской. Я чувствую, что любая книга, поддерживающая человека, его индивидуальность, его неповторимость, становится антисоветской, потому что диктатура государства направлена против человека как индивидуума».
Игорь видел, как противоречия советского эксперимента искалечили судьбу его собственного отца. Яков Израилевич искренне верил в идеи большевиков и порвал со своей буржуазной религиозной одесской семьей. Он полагал, что ему и другим по силам построить справедливое общество, свободное от антисемитизма. В 1941 году он стал редактором газеты «Днепропетровская молодежь» и, казалось, уверенно шел к журналистскому успеху, но после войны Сталин решил прижать евреев. Яков Израилевич был вынужден уехать и скрыться у родственников в далеких Черновцах, провинциальном украинском городке на границе с Румынией. До Первой мировой войны Черновцы входили в состав Австро-Венгрии, затем стали частью Румынии, до аннексии, проведенной Сталиным в 1944 году. Но и там он работал в местной газете – и первый сердечный приступ случился с ним после того, как он написал статью о югославском лидере маршале Тито в «слишком мягких», как выяснилось, выражениях. Он получил «строгое партийное взыскание за сознательное приукрашивание истинной сути реакционного режима Тито в Югославии». Яков Израилевич был настолько возмущен, что написал – в нарушение партийной дисциплины – письмо в московскую газету «Правда» в защиту своей «либеральной» редакторской колонки. Это был единственный раз, когда Игорь видел, как его отец «выпрямился во весь рост». «Правда» так и не ответила.
Яков Израилевич скончался после очередного сердечного приступа, когда Игорь был еще студентом. К тому времени Игорь уже все для себя решил в отношении режима. Поворотным моментом для него стал 1968 год, когда советские танки въехали в Прагу, – все понимали, что это вторжение, но притворялись, что речь идет о «братской помощи».
В своей первой повести «Читая Фолкнера», написанной в 27-летнем возрасте, Игорь использовал сюжеты из собственной жизни. Вымышленный рассказчик, молодой писатель, находит записи своего отца, сделанные в имперском, обезличенном стиле, и сравнивает их со своими:
Страна сбросила оковы капиталистического рабства! Буржуазная культура всегда была далека от народа! Теперь она окончательно обнажила свое лицо – лицо служанки монополистического капитала! Да здравствует солнце, да скроется тьма!
И:
Еще минуту тому назад ты шел улицей, вдыхал воздух и выдыхал слова. Теперь ты дорвался до бумаги – сейчас посыплется, как черешни из-за пазухи. Разве есть счастье большее, чем писать от первого лица?
Рассказ Игоря полон радости от права человека определять самого себя. Его герой, вдохновленный чтением романа американского писателя-модерниста Уильяма Фолкнера «Шум и ярость», экспериментирует с разными стилями для описания своего состояния, Черновцов и семьи. Он использует лишенный знаков пунктуации стиль свободного потока сознания, перемежая его отрывистыми предложениями. Он то принимается писать в стиле Фолкнера, то пробует что-то иное. Он пытается выяснить, действительно ли история личности, история «Я», начинается с воспоминаний о родителях (нет), первых вопросов об этнической принадлежности (нет) или же с того момента, когда вы влюбляетесь и впервые видите человека новыми глазами (да).
Я в комнате, где музыка и дым. Напряженная спина отца… Жуть газетных передовиц; какие тяжелые слова ворочает отец: машинно-тракторная станция, [партийная] директива… С этого начался Фолкнер?