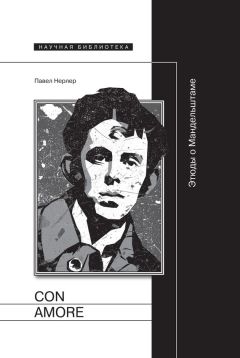Слова не только выразительные, но и крайне ответственные. Смерть как телеологический источник жизни, личная судьба – как генетический код, как своего рода слепок с творческой эволюции или ключ к ней? Выбирая и примеряя на себя тот или иной вид смерти, поэт выступает как бы орудием высшего промысла, предначертанного ему чуть ли не с пеленок.
Немедленно возник соблазн «опрокинуть» этот тезис на самого Мандельштама.
И в том, какую судьбу и какую смерть, с напророченными «гурьбой и гуртом», выбрал себе в ноябре 1933 года, написав роковые стихи о Сталине, 42-летний Мандельштам, этот хрупкий и отнюдь не героический от рождения человек, – сходились его поэтическое торжество, его гражданское величие и его человеческая трагедия.
Разве не об этом – поразительные пророчества «Стихов о неизвестном солдате» (март 1937 года)?
Наливаются кровью аорты,
И звучит по рядам шепотком:
– Я рожден в девяносто четвертом,
– Я рожден в девяносто втором… —
И, в кулак зажимая истертый
Год рожденья, – с гурьбой и гуртом
Я шепчу обескровленным ртом:
– Я рожден в ночь с второго на третье
Января в девяносто одном
Ненадежном году – и столетья
Окружают меня огнем.
В то же время картинка, которая при этом всплывала, была очень простой и уже всем привычной: Поэт дерзновенно нахлестал своей эпиграммой Тирана по щекам – и теперь обречен испить цикуту из его рук: он не может не умереть у расстрельной стены или в ГУЛАГе!
Тем более, что так, в сущности, и произошло!
Бессмертие как бы отыскало Поэта, но взяло за себя хорошую цену – ничем не отвратимое самоубийство!..
Но задумаемся еще раз: действительно ли Мандельштам сознательно искал именно такую судьбу?
Вся мандельштамовская жизнь явила нам образцы потрясающего жизнелюбия, и добровольное заклание – пусть и трижды значимое социально или исторически – плохо вписывается в его живой образ. Быть «к смерти готовым» и искать ее – не одно и то же.
Ни клятва верности четвертому сословью, ни осознанье невозможности – для себя – «жизнь просвистать скворцом» и «заесть ореховым пирогом», ни уж тем более чувство поэтической правоты никак не исключали того, что их носитель – жив и предполагает жить, без чего, согласитесь, слышать и писать стихи затруднительно. Его раздирают и внутренние противоречия – Мандельштам-миф, Мандельштам-поэт и Мандельштам-человек не всегда ладят друг с другом.
И все-таки не телеологический промысел убил поэта и не снятие с него чудотворной (из когтей чудовища!) защиты из Кремля, а истертые и окровавленные жернова российской государственной машины, всего лишь на время персонифицированные в усатом «кремлевском горце», но легко перевоплощающиеся в любую иную оболочку – с бородкою или лысиной, в бровастую или безликую.
Самоубийство на самом деле совершала и власть – не просто отвратительный и нерукопожатный брадобрей, а голодное государство-трупоед, не жалеющее ни холопов, ни поэтов. И усатый тиран ему явно был к лицу, точнее, он и был его лицом.
Иная мифологема вынесла Мандельштама и Сталина на самый гребень другого упрощения: Поэт и Тиран. Тиран-поэтомор, убивающий живое слово во плоти, и поэт-тираноборец, в конце концов якобы побеждающий его силой своей песни.
Но и это самообольщение. Потому что и тут победа не за Мандельштамом и не за Пушкиным. Вон какой памятник воздвигло ему, Сталину, независимое российское телевидение – ему, кремлевскому горцу, бронзовому (а если по-честному – то золотому) призеру номинации «Имя России».
Но Мандельштаму не до величаний: он по-прежнему держит свой фронт.
Ибо продолжается, не кончаясь, та битва, в которой музыка и стихи едва ли не единственное противоядие от бесчеловечности.
Вот почему поэзия, как он однажды выразился, это война!53
СКВОЗЬ ПТИЧИЙ ГЛАЗ
(О ПРОЗЕ МАНДЕЛЬШТАМА)
Андрею Битову
Миф есть поэзия целого.
Он отвергает поэзию частностей:
они ему нужны только как слуги целого54.
Мандельштам обратился к прозе, видимо, тогда же, когда и к стихам. Его школьные сочинения – в частности, дошедшее до нас сочинение 1906 года «Преступление и наказание в “Борисе Годунове”» – полностью подтверждает оценку тенишевского словесника, данную Мандельштаму двумя годами ранее: «Русский язык. За год чрезвычайно развернулся. Особый прогресс наблюдается в самостоятельном мышлении и умении изложить результаты его на бумаге»55.
А в конце апреля 1907 года Мандельштам писал автору этого отзыва, Владимиру Гиппиусу, из Парижа: «Не занимаюсь почти ничем, кроме поэзии и музыки. Кроме Верлэна, я написал о Роденбахе и Сологубе и собираюсь писать о Гамсуне». Еще более ранней, по-видимому, была статья Мандельштама о «Снегурочке», о которой узнаем из воспоминаний Константина Мочульского56. Ни один из этих текстов, впрочем, не найден и едва ли когда-либо будет разыскан.
Посему самой ранней из дошедших до нас прозаических вещей Мандельштама стала его статья «Франсуа Виллон», опубликованная в «Аполлоне»57. Она была написана в 1910 году, о чем мы узнаем из даты под ее перепечаткой в сборнике 1928 года «О поэзии» (единственная, кстати, статья, не подвергшаяся авторской переработке).
Задумана она была, вероятней всего, в Париже, где весной и летом 1908 года Мандельштам посещал лекции Бергсона и Бедье в Сорбонне и Коллеж-де-Франс, а написана скорее всего в Гейдельберге, где Мандельштам отзанимался семестр в местном университете и, в частности, посещал семинар Фрица Ноймана по романо-германской литературе. Образ «бедного школяра» нашел в душе Мандельштама столь восхищенный отклик, что и в воронежском тридцать седьмом году именно Вийона вспоминал поэт в качестве противовеса «отборной собачине» «египетской» государственности.
…Украшался отборной собачиной
Египтян государственный стыд,
Мертвецов наделял всякой всячиной
И торчит пустячком пирамид.
То ли дело любимец мой кровный,
Утешительно-грешный певец, —
Еще слышен твой скрежет зубовный,
Беззаботного права истец…
…Рядом с готикой жил озоруючи
И плевал на паучьи права
Наглый школьник и ангел ворующий,
Несравненный Виллон Франсуа.
Он разбойник небесного клира,
Рядом с ним не зазорно сидеть:
И пред самой кончиною мира
Будут жаворонки звенеть.
…После революции, особенно в 1922 – 1923 годах, Мандельштам написал десятки статей, рецензий и очерков, главным образом для московских и петроградских журналов и газет58. Некоторые из них вошли в 1928 году в книгу «О поэзии» – первый и последний прижизненный сборник критической прозы.
Первую попытку собрать книгу статей Мандельштам предпринял, собственно, еще в 1918 году, о чем свидетельствует план ближайших изданий петербургского издательства «Арзамас»59. В апреле 1923 года журнал «Россия» сообщил о подготовке в Госиздате мандельштамовской «книги статей литературного и культурно-исторического характера»60. Однако поиски этой книги ни к чему не привели. Значился Мандельштам и в списке авторов «Критической библиотеки», замышлявшейся в 1923 – 1924 годах харьковским кооперативным издательством «Пролетарий»61. Статьи, как, впрочем, и «большая» проза, предполагались и в неосуществленном гихловском62 двухтомнике в 1932 – 1933 годов.
Что же до книги «О поэзии», то она вышла в свет в издательстве «Academia» в конце июня 1928 года тиражом 2 100 экз.
Ее открывало недвусмысленное авторское предуведомление:
«В настоящий сборник вошел ряд заметок, написанных в разное время в промежуток от 1910 до 1923 года и связанных общностью мысли. Ни один из отрывков не ставит себе целью литературной характеристики; литературные темы и образцы служат здесь лишь наглядными примерами. Случайные статьи, выпадающие из основной связи, в этот сборник не включены. 1928. О.М.»
Тем не менее известно, что, собирая «О поэзии», Мандельштам специально разыскивал некоторые из своих ранних статей (в частности, «Утро акмеизма» и «Скрябин и христианство»). За исключением «Заметок о Шенье», для всех вошедших в нее текстов известны ранние публикации, однако при подготовке книги практически все они (за исключением «Франсуа Виллона») были заново отредактированы. Полностью или частично сохранились черновики только нескольких статей («Конец романа», «О собеседнике», «Петр Чаадаев», «Заметки о Шенье»). В архиве Ленинградского государственного института истории искусств, в формальном подчинении которому находилось издательство «Academia», исследователей дождался наборный экземпляр «О поэзии», подписанный к печати 27 апреля 1927 года63, отличающийся от книги не только текстуальными разночтениями, но отчасти и составом. Так, в нем еще оставалась статья «Буря и натиск» (правда, уже перечеркнутая в оглавлении), а к статье «Заметки о поэзии» еще не присоединен текст статьи «Борис Пастернак» (что позволяет предполагать наличие еще одной – окончательной – редакции рукописи книги, возникшей, возможно, на стадии сверки). Из дневника А.А. Кроленко, в 1921 – 1929 годах возглавлявшего издательство «Аcademia», известно, что издание книги горячо поддерживал Ю.Н. Тынянов и что авторский договор был заключен в феврале 1927 года64.