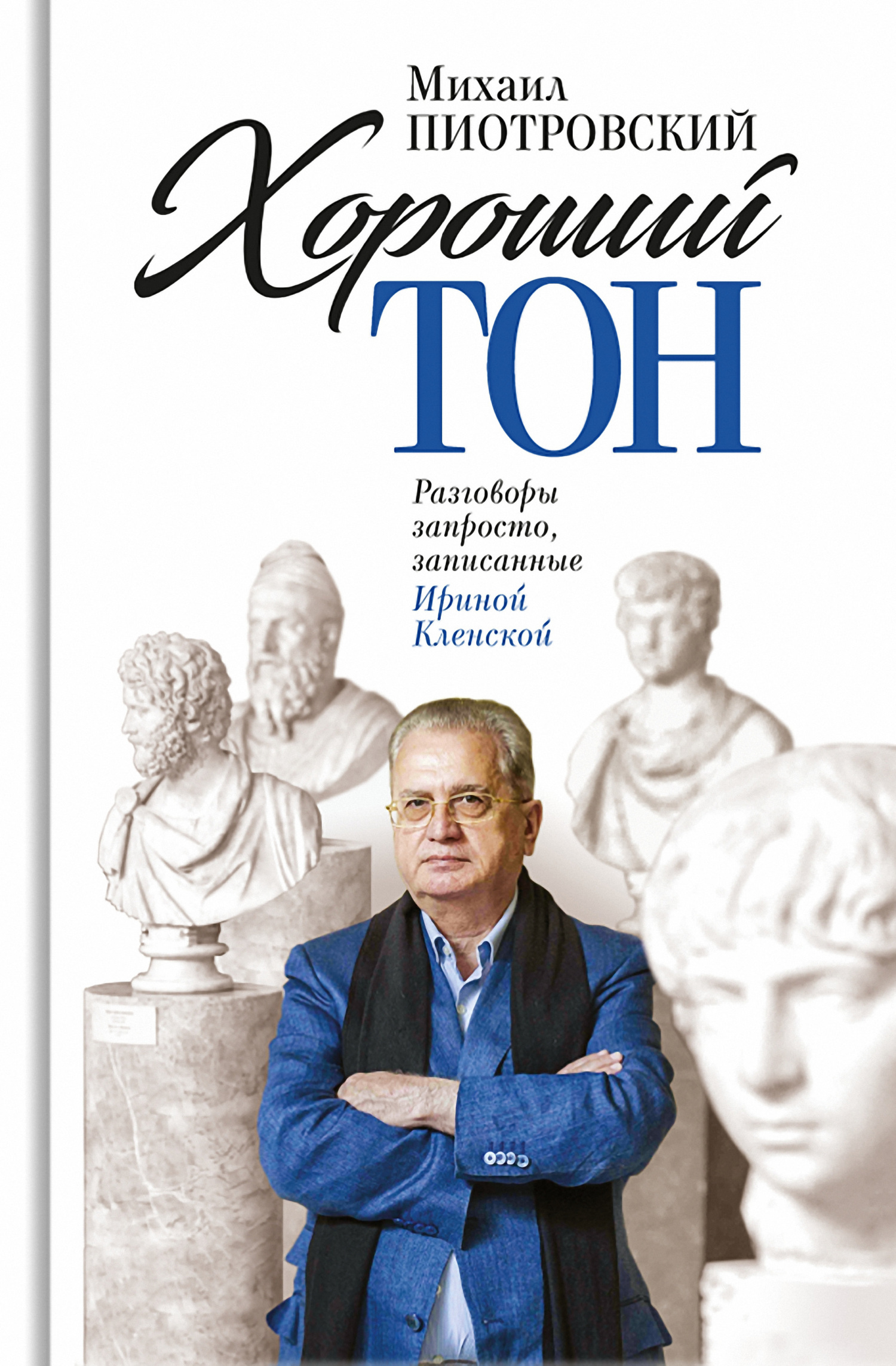встречается с президентом Египта Гамалем Абдель Насером. Иден хорошо владел арабским языком и решил блеснуть: во время беседы перешёл на арабский. Что же произошло? Его поступок не вызвал восторга, наоборот – раздражение, возмущение. В результате они не смогли договориться, переговоры провалились. Почему? Дело в том, что не всегда уместно говорить на языке страны, в которой вы оказались, людям это может не нравиться: им неприятны подобные «фамильярности», они опасаются, что вы могли понять и узнать что-то, слушая их разговоры, – то, что вам знать не полагается. Множество оттенков, и всё нужно учитывать, когда прикасаешься к чужой культуре, к чужим обычаям.
Я часто читаю Коран, но также читаю Библию – Ветхий Завет, Евангелие, Деяния апостолов и не вижу в этом никакого противоречия. Меня раздражает примитивный подход к миру, людям, искусству, событиям… ко всему. Надо прекращать упрощать, может быть, наступило время сложных вопросов? К сожалению, мы нечасто вразумляемся. Вразумлять, вразумляется… Вдумайтесь – какая глубина таится в слове. Вразумить – значит, принять верное решение.
Меня часто спрашивают, как я отношусь к вере. Я не верю, а знаю… Так, кажется, Карл Юнг сказал. Я не очень понимаю, что такое чистая вера. Скорее всего, это знание с определённой долей вероятности, знание в ощущениях. Я понял давно: безусловно, существуют какие-то необъяснимые причинные связи. Человеку верующему, конечно, живётся легче: когда знаешь, что после смерти есть иная жизнь и душа бессмертна, – не так грустно. Однако всё время держаться только на одной вере, на мой взгляд, сложно. Сомневающийся человек интересен, сложен, он всё подвергает сомнению, анализу и, в конце концов, может подойти к такому состоянию, когда всё становится ясно, и дальше – только вера. И человек выбирает – или полное неверие, или чистая вера.
Всему есть время и место, а самое главное – и верующие хороши, и неверующие хороши, и никто не должен никому мешать иметь свою точку зрения.
А я?
В ощущениях знаю, что существует Высшее существо и высшие законы. Знаю, что с Высшим существом можно иметь определённый контакт. Знаю, что можно в иное мгновение почувствовать Его присутствие. Всё-таки я гуманитарный человек, а у нас (гуманитариев) дважды два – не всегда четыре: может быть и пять, и шесть.
Я – директор Эрмитажа. Горжусь, ценю, дорожу этим званием, но иногда… хочется в пустыню: ночью смотреть на звёзды, слушать, как шуршит песок, наслаждаться советами мудрецов и мечтать быть хорошим востоковедом.
Однажды ученики шейха Накшбанда попросили показать чудо. Он ответил: «Все мои чудеса наяву. Вот, полюбуйтесь – несмотря на такое множество грехов, я до сих пор стою на ногах и хожу по земле. Разве есть чудо большее, чем это?!»
МЫСЛИ ВСЛУХ
Культура отвечает за те потребности, которых ещё нет.
Смягчать нравы – новая задача культуры.
Эрмитаж – музей контекстов.
В кризис все начинают ходить в музей. Человеку трудно, и, может быть, в музее он ищет утешение. А может быть, в нём ищут повод для оптимизма?
Музей – не диктатура, а критерий вкуса.
У нас многое запрещается, но музей должен оставаться островом свободных собственных решений, и не публике определять, каким должен быть музей.
Разнообразие – красиво: красиво, когда у людей разные взгляды, разные религии, разные пути к Богу; красиво, когда у людей разный цвет кожи.
Убеждён: мир нуждается в сложном человеке. Когда люди не видят сложностей – ракеты начинают падать.
Я учёный и потому скептически отношусь ко всякого рода опросам, а в достоверность статистических подсчётов не верю абсолютно. Широкие массы, если с ними правильно поработать, скажут то, что от них ждут.
Музеи должны сложное делать красивым. Люди должны полюбить сложности.
Скандал – форма существования. Надо уметь пользоваться скандалами, иногда именно скандал заставляет обратить внимание на проблемы.
Характер у меня… всегда был плохой. Я стал нетерпим к «негладкости» жизни. Не люблю, когда нарушаются планы, но мне нравится и неожиданность… иногда есть смысл и нарушать, и менять планы. Планы должны меняться.
Мой личный девиз: «Терпение – это красиво».
* * *
Из разговора с сотрудником Эрмитажа: «Тяжёлое было время – скандалы, слухи, сплетни… очень агрессивная, злобная обстановка вокруг Эрмитажа. Назначили пресс-конференцию… много пришло озлобленных журналистов – все жаждали крови, разборок, скандала. Помню, как из кабинета вышел Михаил Борисович – бледный и страшно спокойный. “Ну, что ж, пора – пошли на войну”».
На войне как на войне. Главное – надо думать, как сделать скандал правильным и полезным, но что бы в мире ни происходило – музеи всегда на передовой линии борьбы за культуру, борьбы против ограниченного, примитивного взгляда на жизнь, искусство. Век ставит труднейшие вопросы, и часто считается, что сложные проблемы можно решать быстро и просто. Это большая ошибка – она может спровоцировать большие культурные катастрофы. Нужно научиться выживать, а чтобы выжить – надо понимать всю сложность мира, его хрупкость. Поверьте, простых, лёгких решений нет и никогда не будет.
Я не слишком сомневался, когда мне предложили стать директором Эрмитажа. Но прошло немного времени, и я в ужасе стал себя спрашивать: «Зачем?! Куда я ввязался?!» У меня сложилось ощущение полной катастрофы, и было отчаянно непонятно – как выбираться из всего хаоса проблем. Оставалось одно: сжать зубы и работать, а дальше – Бог поможет.
Несколько лет приходилось тяжело – настроение было мрачное, но у меня такой характер: если решил – иди. Нет никаких смелых поступков – просто я стараюсь сделать всё то, что считаю нужным, и говорить то, что считаю нужным говорить. У меня правило: если нет внутреннего ощущения, что ты должен что-то сказать – лучше сиди и молчи, но если чувствуешь необходимость и серьёзность – не бойся, говори и никогда не жалей о том, что сказал или сделал.
Когда я стал директором – не было ничего: ни денег, ни особенных условий. Всё рушилось, но была свобода – знаете, я понятия не имел, что чего-то нельзя. Всё было можно, ничего не запрещалось. Сейчас я очень хорошо знаю, чего нельзя: законы, запреты, прокуратура. Сложно, конечно, но уже понимаешь: я по-прежнему ценю смелые, неожиданные, «невозможные» идеи и проекты.
Мой отец, Борис Борисович Пиотровский, хотел написать своеобразную хронику директорства Эрмитажа – историю жизни людей, решившихся возглавить лучший в мире музей: понять их решения, ошибки, удачи. Некоторые судьбы вызывают у меня огромный интерес. Как они справлялись с грузом проблем и ответственности, сомнениями, что их восхищало, а что угнетало? Мне было любопытно размышлять над проектом отца о судьбах директоров Эрмитажа. Их судьбы, может быть, – ответ на мои сегодняшние вопросы. Сомнений и тревог, поверьте, хватает.
Степан Александрович Гедеонов… первый директор Эрмитажа. «Жизнь, – говорил он, – увлекательное приключение». Он был из очень известной и влиятельной семьи, его отец – Александр Михайлович Гедеонов – почти четверть века служил директором Императорских театров обеих столиц, и сын получил эту должность по наследству.
Считается, что я занял пост директора Эрмитажа тоже по наследству, мне любят напоминать: династия Пиотровских тиранит Эрмитаж больше полувека, захватили власть и никого не подпускают. Обидно? Раздражает? Я спокойно отношусь к ненависти, сплетням и недоброжелателям. Я их не замечаю, вернее, научился не замечать. А главное – нельзя реагировать ни на какие провокации. Да, я директор и сын директора.
Мне кажется, что смысл жизни – не только поддерживать эту остроумную инициативу, когда-то начатую, но и в том, чтобы постараться прожить её достойно, попытаться быть достойным своих предков, предшественников, и ощущать их влияние, чувствовать, что они довольны тобой, твоими поступками. Мы продолжаем жизнь тех, кто был перед нами, и может быть, смысл в том, чтобы с честью сменить их и подготовить что-то для тех, кто придёт нам на смену.