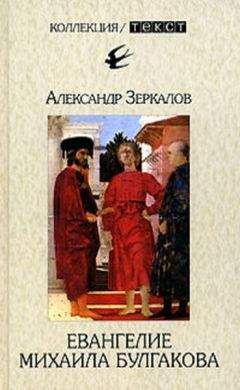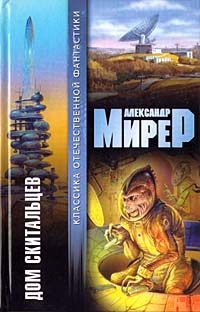«С этого времени Пилат искал отпустить Его» — по Иоанну [66].
Итак, предварительная задача выполнена. Иешуа пробил броню «свирепого чудовища», уверенного в своем праве быть свирепым. Поставим еще одну пометку на память. Можно спорить: чудо — не чудо, гипнотизер, великий врач, но здесь как бы уступка, отход от булгаковского правила: соблюдать достоверность в психологических деталях.
Уравновешивая это отступление, Булгаков концентрирует жесткие, достоверные подробности. Начинается третий круг допроса, ритмически соответствующий тому месту у Иоанна, где Пилат спрашивает «Откуда Ты?» [64]. Допрос как бы начинается заново.
Получив из рук Иешуа исцеление, уже «ища отпустить его», правитель остается добросовестным чиновником. Правда, он подсказывает Иешуа оправдательную формулу: «Так ты утверждаешь, что не призывал разрушать… или поджечь, или каким-нибудь иным способом уничтожить храм?» (с. 443) и предлагает арестанту в том поклясться. «Чем хочешь ты, чтобы я поклялся? — спросил, очень оживившись, развязанный». Несомненно, читателю знакомо это оживление — так радуется искусный логик, когда партнер сам лезет в логическую ловушку. Но много ли вы найдете людей, способных радоваться логической игре, когда на шее — петля?.. Игемон угрюмо предлагает поклясться жизнью, «так как она висит на волоске, знай это!» [65]. Естественно, он прибегает к эллинско-римской метафоре — волоски, нити, перерезаемые Парками… Иешуа сейчас же напоминает оппоненту, что «перерезать волосок уж наверно может лишь тот, кто подвесил». Он намекает на участие Бога в собственном деле, и намек, как это ни странно, улавливается судьей-язычником (к этому мы в свое время вернемся). Кроме того, Иешуа за софистическим спором ускользнул от клятвы — в соответствии с евангельским правилом: клятв не давать — и по Иоанну [65]. И яд его обаяния вливается в Пилата, прокуратор уже улыбается, но допрос продолжает. «Верно ли, что ты явился в Ершалаим через Сузские ворота верхом на осле, сопровождаемый толпою черни, кричавшей тебе приветствия как бы некоему пророку?» [9], [10]. Ответ: «У меня и осла-то никакого нет, игемон… Пришел я в Ершалаим точно через Сузкие ворота, но пешком, в сопровождении одного Левия Матвея, и никто мне ничего не кричал, так как никто меня тогда в Ершалаиме не знал» (с. 443) [23].
Иешуа пришел в столицу без свиты апостолов, без «осанны»; он не только по рождению, но и по деятельности своей никогда не претендовал на роль мессии… Он не был, следовательно, лицом опасным политически. Из контекста рассказа это вытекает однозначно — дальше мы увидим дополнительные подтверждения.
То есть о въезде на осле и пергаменте записан слух, а вероятнее — навет; здесь рука лжесвидетеля [14].
Теперь Пилат может отказаться от утверждения приговора Малого Синедриона. Верховный судья отрицает связь «между действиями Иешуа и беспорядками, происшедшими в Ершалаиме недавно. Бродячий философ оказался душевнобольным» (с. 445). Прокуратор намерен приговорить его к ссылке — в собственной резиденции прокуратора в Кесарии [89], [86].
И все-таки — приговорить к ссылке. Как и в Евангелиях, оправдание неполное — см. абзац при [47]. У Булгакова эта двойственность объясняется просто. Иешуа не виновен конкретно, в принципе же он — опасный пропагандист, то есть способен «смущать народ»… Но судья — человек с волчьими глазами и волчьим, командным хрипом в голосе, привязанный только к собаке, такой же свирепой, как он сам, полюбил этого человека.
Булгаковская задача решена. Но теперь предстоит сверхзадача — заставить такого сильного человека, как игемон, расстаться с любовью, может быть, первой в его волчьей жизни.
В некотором роде Булгаков попал в ловушку. Пилат, минуту назад готовый казнить «разбойника» практически без вины, теперь готов его покрывать — всей властью императорского наместника… Чтобы заставить его отступить, обвинение должно быть убийственным и неотразимым. Но где взять такое обвинение? Материалы следствия, очевидно, исчерпаны.
И вот римский правитель, прежде чем продиктовать приговор, для порядка спрашивает: «Все о нем?» Секретарь говорит: «Нет, к сожалению», — и подает второй пергамент — с убийственным политическим обвинением.
Возникает несколько вопросов. Почему в деле содержатся два документа? Почему приговор Синедриона основан на сравнительно легких религиозных обвинениях? Почему секретарь, отчетливый служака и внимательный подчиненный, заставил страдающего принципала возиться с этими легкими обвинениями, а серьезное приберег напоследок? Ведь постоянное, хотя и молчаливое внимание судейского чиновника все время подчеркивается при описании допроса. Это серьезные сюжетные и психологические разрывы.
Появление второго, самостоятельного документа кажется вынужденным. Иначе нельзя было сделать так, чтобы Пилат сначала полюбил, а потом все-таки казнил. Сюжет конструировался ради первой части задачи: чтобы полюбил. Для чего и пришлось придержать второй пергамент. Имея всю информацию, человек в плаще с кровавым подбоем решил бы дело за считанные секунды.
Но вопросы, поставленные нами, требуют ответа. Иначе придется считать построение Мастера искусственным; объявить весь его сюжет психологически противоречивым.
Запомним эти вопросы и продолжим анализ.
Этот документ — ритмический аналог обвинения, предъявленного у Иоанна Христу и косвенно — Пилату [67]. Смысл обоих обвинений также совпадает.
Дело происходит так. Секретарь подает пергамент, и Пилат смертно пугается. Ему мерещится кесарь Тиверий, слышатся грозные слова: «Закон об оскорблении величества». Прокуратор спрашивает: «Слушай, Га-Ноцри… ты когда-либо говорил что-нибудь о великом кесаре? Отвечай! Говорил?.. Или… не… говорил? — Пилат протянул слово «не» несколько больше, чем это полагается на суде, и послал Иешуа в своем взгляде какую-то мысль, которую как бы хотел внушить арестанту» (с. 446).
Иешуа, который минуту назад продемонстрировал величайшую наблюдательность, не принимает сигнала «солги». Он простодушно замечает, что «правду говорить легко и приятно…» [37]. Тогда Пилат еще и еще раз пытается направить его на запирательство. (Обратите внимание, только так реализуется в новелле идея Троицы — как троекратное повторение ключевых высказываний.) Но Иешуа упорно не желает лгать («не солги») — хотя ему прямо было сказано о «мучительной и неизбежной смерти», его ожидающей… И он вываливает все подряд: «…Позавчера вечером я познакомился возле храма с одним молодым человеком, который назвал себя Иудой из города Кириафа. Он пригласил меня к себе в дом… и угостил…
— Добрый человек? — спросил Пилат, и дьявольский огонь сверкнул в его глазах.
— Очень добрый и любознательный человек, — подтвердил арестант, — он выказал величайший интерес к моим мыслям, принял меня весьма радушно…
— Светильники зажег… — сквозь зубы в тон арестанту проговорил Пилат, и глаза его при этом мерцали» (с. 446).
Итак, состоялась тайная вечеря, на которой было не тринадцать человек, а всего двое — без статистов… Что там произошло?
«…Попросил меня высказать свой взгляд на государственную власть», — рассказывает Иешуа. «В числе прочего я говорил… что всякая власть является насилием над людьми и что настанет время, когда не будет власти ни кесарей, ни какой-либо иной власти. Человек перейдет в царство истины и справедливости, где вообще не будет надобна никакая власть.
— Далее!
— Далее ничего не было, — сказал арестант, — тут вбежали люди, стали вязать меня и повели в тюрьму» (с. 447).
Вечеря была полицейской ловушкой. Этот сюжетный перевертень раскрывает технику ареста, по Евангелиям непонятную. (См. абзац перед [34].) И дополняется идеологическим перевертнем: речи арестанта соответствуют ложным обвинениям, возводимым на Христа по Иоанну [69]. И — необходимо подчеркнуть — речи соответствуют справедливым обвинениям, предъявляемым иудеями Пилату [67]. То есть вскрывается, доделывается намек Иоанна: проповеднику любви и добра приписывают призыв к бунту. (Лживо — только по Иоанну, а по синоптикам Иисус действительно бунтовщик.)
Крамольный смысл проповеди интуитивно ясен — позже мы к этому вернемся. Проповедь перекликается с евангельской идеологией [4], [81], с высказыванием Иоанна: «И познаете истину, и истина сделает вас свободными» (Ин. VIII, 32). (См. также [58] и [62].)
Такова многослойная семантика этой сценки. Психологически она нисколько не проще: проницательный философ не замечает руки, протянутой ему Пилатом. Не замечает с таким упорством, что невольно приходит на память: «Впрочем, Сын Человеческий идет по предназначению; но горе тому человеку, которым Он предается» (Лк. XXII, 22; см. также [15], [33], [65] и [73]). Иешуа, как и евангельский его прототип, вроде бы сам, целенаправленно, идет к гибели, увлекая за собой Пилата и Иуду.