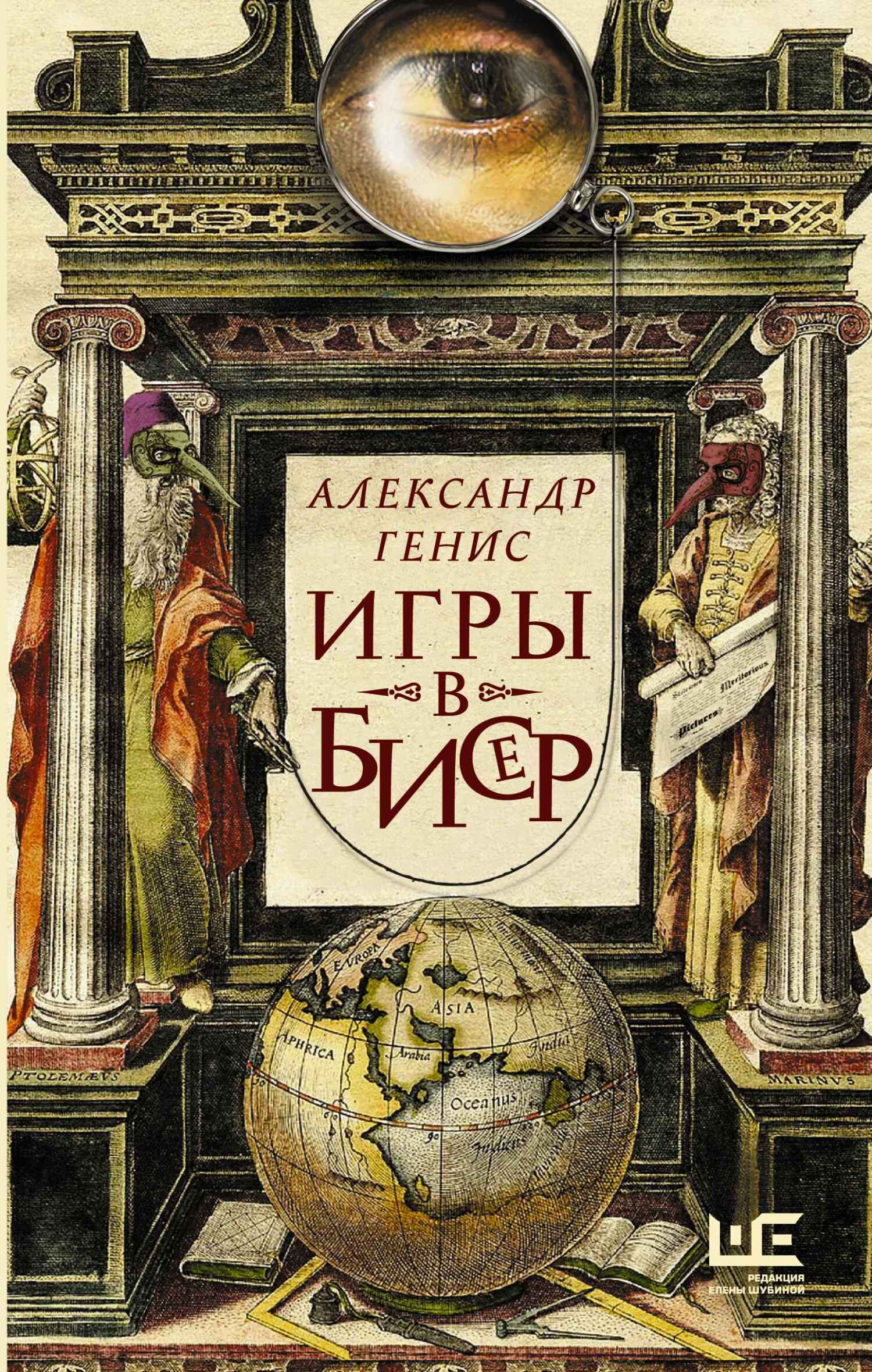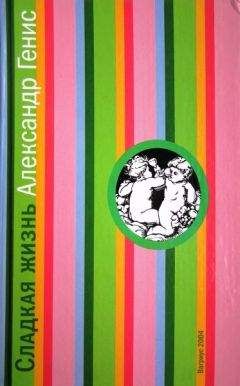от своего, но не так страшно. За все отвечал персонаж с присущими именно ему особенностями: безудержным любопытством, охоте к перемене мест и неумеренностью в выпивке, за которую патриарх русской прессы Америки, редактор “Нового русского слова” Андрей Седых размашисто и справедливо окрестил нас
“двое с бутылкой”.
Впервые нас разделило радио. Мы не могли говорить в микрофон “Свободы” хором, и нам пришлось взять псевдонимы. Петя назвался Андреем Двинским, я – Сергеем Снегиным. Вымышленные имена произвели на свет персонажей, которые заметно отличались друг от друга, хотя и не так, как Тарапунька от Штепселя. Двинский звучал солидно, Снегин – задиристо. Это не имело отношения к действительности, обе партии мы сочиняли вместе. Роли диктовал голос. Мой, недовольно заметил звукорежиссер, звучал по-пионерски, что и понятно: я был самым молодым в редакции. Зато у Пети был прекрасный голос для радио: убедительный, в меру ироничный и всегда спокойный. Правда, у Вайля был маленький речевой дефект, о котором даже я, хотя мы проводили вместе большую часть суток, никогда не догадывался. Это выяснилось, когда мы беседовали о славно проведенных выходных в программе Ефимовой.
– На озере, – заливался Петя, – была водочная станция.
– Америка, – восхитилась Марина, – всюду рюм- ку нальют.
– Нет, нет, – рассердился Вайль, – я сказал “водочная станция”.
– Я же так и поняла, – растерялась Марина.
Тут-то и выяснилось, что Петя не выговаривает твердую “л”, из-за чего “лодка” у него звучала как “водка”. Но это не помешало нашему персонажу, потому что не так уж часто мы катались на лодке.
8. Я
В сорок лет я опять появился на свет. На этот раз в качестве нового и совершенно незнакомого персонажа. Хотя его звали так же, как меня, я присматривался к нему не без опаски. Новорожденный был беззащитен и этим ластился к читателю. Те же китайцы говорили, что любят тех, кто не внушает опасений, и тут младенцы вне конкурса. Но я боялся пересолить и строил свою авторскую личность из противоречий: пронзительная искренность со старательной ученостью. И если первую я выдавливал из себя скрипя зубами, то вторая лилась сама, когда я забывал прикрутить кран.
Дело в том, что я всегда был одержим знаниями, как другие – спиртным. Мне еще не встречался факт, показавшийся лишним или скучным. Хуже, что, вставив его в свое интеллектуальное меню, я испытываю непреодолимое желание угостить посторонних, невиновных и читателей.
Зная за собой этот порок, я уговариваю автора сдабривать текст сатирой, юмором, иронией – по отношению к себе, разумеется. Этому я тоже научился у Довлатова, который тщательно следил за своим авторским персонажем, не позволяя ему высовываться, опережать читателя и подниматься над ним. Мало что мы так ненавидим, как заумь и снобов (для последних Бахчанян придумал специальную машину – “снобовязалку”).
Книга за книгой я растил свое бумажное Я, пока оно не стало от меня заметно отличаться. Что и понятно. Я старел, а он оставался тем же: задиристым, азартным, непоседливым. Другими словами, – Шариком, как меня зовет жена, когда хочет похвалить и обидеть.
Мне пришлось сжиться с этим Я, учась у него терпимости, воодушевлению и готовности разобраться с другими без жертв. Собственно, именно это же меня в нем и раздражало, но выхода уже не было. Стоило мне сесть за стол, как он вырывался на волю. Персонаж заменял меня настолько бесповоротно, что мне оставалось только убить его.
Но писать Он вместо Я – значит перейти на другой язык, то есть начать все сначала, в третий раз поменяв местоимение. Боюсь, что на это, как на вторую эмиграцию, не хватает одной жизни.
1. Эмигранты
Крутой холм, на который я с трудом забрался, профессора прозвали “медленная смерть”. Он был увенчан библиотекой, а без нее в Тарту мало кто обходится. Помимо нее вершину украшали живописные руины готического собора, где в хорошую погоду устраивали концерты. Погода была так себе, и холм был пуст, если не считать моего провожатого. Не обращая внимания на достопримечательности, он привел меня к самому краю оврага и торжественно объявил:
– Здесь началась русская политическая эмиграция, отсюда князь Курбский сбежал к полякам.
Не зная, что сказать, я снял кепку и сфотографировался на память. Внизу играли в теннис, и бежать мне было некуда: я ведь уже там.
Впрочем, далеко не все считали нашу эмиграцию политической, многие предпочитали называть ее “колбасной”. Считалось, что мы продали родину за колбасу, но это сильно удешевляет первую и неправдоподобно повышает цену второй, даже если она сервелат. Сам я в такую сделку не верю, потому что мне есть, чем торговать. “Новая газета” наградила меня одним квадратным метром земли, расположенным в самом центре России, как раз в том месте, где упал Тунгусский метеорит и куда добраться можно только на вертолете. Тем не менее недвижимость греет душу, и я храню купчую на черный день. Кажется, он уже пришел: на мою собственность нет спроса.
Новым эмигрантам хуже. Мы уезжали навсегда и пользовались другой временно́й шкалой. Единицей ее была вечность. Мы верили в незыблемость советской власти, считая, что меняться она может только к худшему. Так оно и произошло, но с промежутком в тридцать лет, которые все меняют: у нас не было опыта свободы, у них есть, точнее был, и об этом трудно забыть по обе стороны границы.
Ремарк, большой знаток эмигрантской жизни, сравнивал немцев с нашими:
“– Русские устроились получше, чем мы, – сказал Шварц. <…>
– Они были первой волной эмиграции, – заметил я. – Им еще сочувствовали”.
По-моему, Ремарк недоговаривает тут важного. Немцы тоже обладали свободой, и она им не понравилась. Гитлер пришел к власти не в Камбодже или на Кубе, а в духовном центре Европы. Марк Твен учил своих детей немецкому, считая его языком будущего. Даже после проигранной войны Германия была могучей интеллектуальной державой. Страна с лучшим образованием, где профессора философии считались духовной аристократией, где “Будденброки” Томаса Манна выдержали сто изданий, где трудный “Закат Европы” Шпенглера стал сенсационным бестселлером. Здесь снималось чуть ли не лучшее в мире кино и ставились самые интересные спектакли. Между двумя войнами Берлин был художественной столицей Европы, а Веймар достиг своего второго апогея.
Эту – другую – Германию не показывают в фильмах о фашизме, но именно в таком духовном пейзаже происходило возвышение Гитлера. Он пришел к власти не оттого, что мир вокруг него одичал. Скорее перезревшая, истончившаяся культура сама отдала ему власть, разуверившись в своей способности ею распорядиться. Немецкие интеллектуалы Веймарской республики, пишет