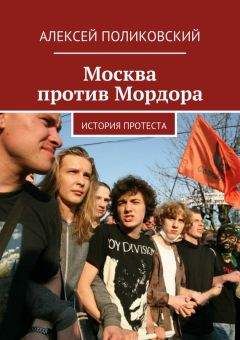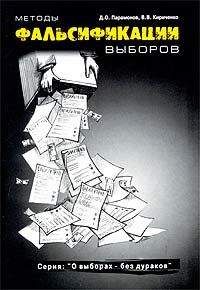Клетка окружена полицейскими и черными охранниками двух видов. У одних на спинах «Федеральная служба судебных приставов», у других «Спецназ». Среди них одна девушка в кепи, она сидит сбоку от клетки, держа в перекрещенных руках дубинку. Ее лицо выражает полное безразличие ко всему происходящему. Потом она начинает от скуки катать дубинку себе по ногам.
Прокурор, или государственный обвинитель, сидит в одиночестве за длинным столом напротив клетки. На углу стола у нее папки в синих обложках. Она сидит напротив клетки, лицом к ней, и все долгие часы первого дня видит прямо перед собой этих людей, сжатых в крошечном пространстве, лишенных воздуха и свободы элементарных движений в тот момент, когда решается вся их жизнь. Она смотрит на них равнодушно, как на рыбок в аквариуме. Ничто не меняется в ее несколько бульдожьем лице с вечным выражением недовольства. Это высокая молодая женщина в голубой форменной рубашке и синей форменной юбке немыслимой краткости. Это не мини, а ультра мини. Она в черных туфлях на фантастически высоких каблуках. Каждый раз, когда судья дает ей слово, она встает во весь свой немалый рост и однообразно объявляет, что подсудимым ничего не нужно, потому что у них все есть. Это она говорит на ходатайства адвокатов, которые просят дать им возможность общаться с подсудимыми и ввести в дело новых защитников: Сергея Мохнаткина для Сергея Кривова и жену или маму Белоусова для Ярослава Белоусова.
Судья Наталия Викторовна Никишина в черной мантии с белым воротником сидит на кресле с высокой спинкой под гербом России. Два кресла по бокам пусты. Общаясь с подсудимыми и адвокатами, она произносит «пожалуйста» и «будьте добры» так, как это произносит человек, не просто естественно вежливый, а подчеркнуто, умышленно и очень четко вежливый. Но если зал начинает шуметь, в ней мгновенно поднимается отработанная годами, профессиональная властность: «Тишина в зале!».
Сергей Мохнаткин, человек с двумя высшими образованиями, отсидевший за то, что вступился за женщину, которую в новогодний вечер избивала милиция на Триумфальной площади, в перерыве судебного заседания вытаскивает из нагрудного кармана рубашки карточку, на которой написано «За права человека». «Иностранный агент!», — представляется он. «Карточка-то на иностранной бумаге напечатана…» Только что Сергей Кривов, стоя в клетке и держа в руках клок бумаги, зачитал свое ходатайство о том, чтобы Сергей Мохнаткин был включен в число его защитников. Голос Кривова из-за стекла был тихим и глухим. Судья ушла думать и, вернувшись, удовлетворила ходатайство. Кривов и Мохнаткин никогда не встречались и не знакомы, но в чем-то кажутся мне похожими: оба невысокие, в том и в другом есть густая жизненная энергия, оба ведут себя как непримиримые бойцы. Они нашли друг друга.
Стоя в фойе перед дверями судебного зала, Мохнаткин рассказывает об ужасах того черного Зазеркалья, где он побывал. Он сравнивает это с Освенцимом. Люди вокруг слушают молча. Все как-то сплетается, перекрещивается, путается, накладывается: страшные рассказы Мохнаткина о местах заключения, легкомысленная маечка с пальмами и короткие шортики, в которых Саша Духанина пришла на суд, спокойная речь и твердая интеллигентность Орлова, узенький пластырь и пятно зеленки на коленке девушки, пришедшей поддержать заключенных, и ящичек алой и белой земляники, которую едят веселые ребята в перерыве суда во втором ряду.
Адвокат Николая Кавказского Сергей Мининков в перерыве суда одиноко сидит в коридоре на стуле у стены. У него грустные глаза. Клетка в большом перерыве пуста, я спрашиваю, где сейчас заключенные. Он отвечает, что все в одном помещении, у них с собой сухой паек, но там нет даже столов, только скамейки. А почему нельзя выпустить их из пыточной клетки и посадить рядом с адвокатами, чтобы они могли дышать как люди и общаться по-человечески? В американских фильмах обвиняемый всегда сидит рядом с адвокатом… Он печально усмехается: «Так то в американском фильме…» А сколько, по его мнению, продлится процесс? «Не менее полугода». Полгода заточения в клетке без воздуха, подъем в 6 утра, отсутствие душа, содержание в «стакане» и долгая изматывающая езда в автозаке… Да, так. Он опять печально улыбается.
Эта клетка, в которую запихнули людей, и без того сидящих в СИЗО — она как тюрьма в тюрьме. В боковой стене у нее отверстия, для общения подсудимых с адвокатом, но к отверстиям адвокатов не подпускает охрана. Убийцам можно общаться с адвокатами в эти отверстия, а заложникам Болотной нельзя. Почему? Почему их вообще год держат в тюрьме за сколотую эмаль омонова зуба? Почему эта длинная, безжалостная, холодная месть с клеткой, и с бесконечным продлением срока заключения, и с постепенным выведением на процессы, которых будет несколько? Потому что они политические, говорит адвокат Аграновский, снова подходя к скамейке с родственниками. Адвокаты прикладывают рты к щелям между балками и что-то говорят туда, в щели. Это какая-то средневековая дичь, адвокаты, говорящие узникам в щели. Что отвечают с той стороны, не слышно, тогда адвокаты прикладывают уши к щели и слушают глухие голоса, доносящиеся с другой стороны стекла, из душной пыточной клетки, из ада и тьмы тюрьмы, из той черной кошмарной изнанки жизни, куда зверь затащил невинных.
День в пыточной
Дачный сезон. Опустевшая Москва. Духота. 6 июня 2013 года в Москве 29 градусов жары
Высокое белое здание Мосгорсуда, украшенное куполом и флагом, возвышается над окрестным городским пейзажем. А вокруг приземистая обыкновенная жизнь. Звенят трамваи. Прямо напротив торжественного входа в суд буднично торгует топливом бензоколонка. В одноэтажных кирпичных бараках, распахнувших двери в жару, ютятся гаражные автосервисы и забегаловка «Тандыр», чуть дальше «Хинкальная», эмблему которой я издалека принял за череп с костями. А это оказалась тарелка со скрещенными ложкой и вилкой. Вывески зовут в шиномонтаж и к адвокатам. И угадывается во всем этом скромный жизненный путь человека района Преображенка: починил машину, любовно сделал ей шиномонтаж, потом судился, взял адвоката, насладился шашлыком в «Тандыре» и закончил свой путь на Богородском кладбище, скромная ограда которого в сотне метров от суда…
Заседание суда по делу узников Болотной в зале 338 начинается с протеста адвоката Емельянова, который говорит, что ему опять не удалось пообщаться со своим подопечным. «В таких условиях защищать нельзя!» Адвокат Клювгант встает и хорошо поставленным голосом обращается к судье с рассказом о том, как он пытался передать в клетку два документа подзащитному, но получил отказ начальника конвойной части. У защитника Семенова та же история: здесь, в зале суда, конвой отказывается передавать документы в клетку, и к тому же конвойный стоит рядом и внимательно слушает все, что говорят друг другу адвокат и его подзащитный. Как адвокатам работать в условиях, где нет свободного общения и где чужое ухо приставлено к любому разговору защиты? Это издевательский процесс.
И еще это пыточный процесс. Вдруг, когда уже потекли вопросы и ответы, в клетке встает Николай Кавказский и пытается рассказать о «стаканах», в которых обвиняемых содержат вне зала суда. Он успевает сказать только о том, что стаканы эти размером метр на полтора, как судья перебивает его с усталой и несколько брезгливой скукой: «Это не относится к ходатайству…» Процесс идет дальше, но тогда встает Ярослав Белоусов: «Ваша честь! Сборка размером метр на полтора, нас там держат по два человека, грязный пол и грязные стены, и вчера мы там провели 8 часов. Ваша честь, надеемся на Ваше понимание!» Ноль внимания и понимания, как будто никто ничего не сказал. Проходит еще час, и теперь, прерывая ход процесса, в клетке встает бритый наголо, слепнущий Акименков: «Я хочу пожаловаться на пыточные условия содержания. Во время ожидания процесса нас держат в сборке. Она очень грязная, и там темно. Автозак может несколько часов стоять у СИЗО… В камеру попадаем в 12 ночи… Уже три дня без горячей пищи… Учитывая, что нам предстоят сотни заседаний… Это изматывающий график… Условия нашего пребывания являются бесчеловечными».
Он говорит в щель клетки, глухо и упорно, несмотря на то, что судья делает попытку прервать и его тоже. Но невозможно прервать человека, который смотрит своими невидящими глазами прямо перед собой и полон решимости договорить до конца. Что делать судье? Посылать в клетку спецназ, чтобы он на глазах у публики сгибал Акименкова втрое и затыкал ему рот? Судья смиряется с демаршем заключенного, потом осведомляется холодно: «Всё у вас?» ― и невозмутимо ведет процесс дальше.
Сидя на скамейке в ярко освещенном белом зале без окон, я с расстояния двадцати метров наблюдаю судью Наталию Викторовну Никишину. Она не бесстрастна, в ней есть холодная вежливость, внезапная ласковость и ирония классной дамы, которая говорит адвокатам, как говорят расшумевшимся детям в классе: «Уважайте друг друга, слушайте друг друга!» Но как она, судья, может равнодушно пропускать мимо ушей рассказы подсудимых о пыточных условиях? Как вообще человек может пропускать мимо ушей, если другой человек говорит ему: «Помогите! Меня пытают! У вас на глазах! У вас под носом!» Как женщина, пусть даже она носит черную мантию с белым воротником и восседает под гербом России, может быть холодно безразлична к тому, что говорят ей измученные люди в клетке? И двух ее слов, сказанных с судейской кафедры, было бы достаточно, чтобы дать адвокатам работать без преград и прекратить пытку узников. Но таких слов у нее нет.