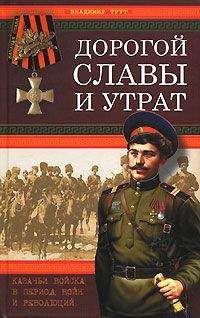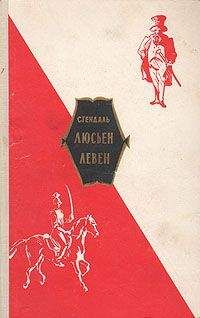Что же касается цены, то средний уровень потребления, которого царская Россия достигла в 1913 году, был достигнут в СССР лишь к концу 50-х. Никита Хрущев говорил о том, что соизмеримую с царскими временами зарплату он начал получать лишь тогда, когда стал секретарем горкома партии в Москве. Большая часть железных дорог в России построена до революции 1917 года. Многие сельские школы, больницы и по сей день размещаются в земских зданиях.
— Почему именно Великая Отечественная — самая главная для нас война, а Первая мировая практически забыта?
— Есть историки, которые считают, что Первая и Вторая мировые войны — это два акта одной драмы. Действительно, из Первой мировой войны вырастает Вторая. И там и там действовали схожие коалиции. Можно сказать, что это была одна мировая война. Но в сознании советского и постсоветского человека Первая мировая война звучит как-то не очень притягательно. Вот Великая Отечественная — другое дело. В человеческой истории огромную роль играют мифы. Во французской историографии поход Наполеона в Россию называют «второй польской кампанией». Для нас Вторая мировая война — это Великая Отечественная, а для немцев это был Восточный фронт. Первая мировая для наших современников до последнего времени вообще ничего не значила, и только сейчас мы начинаем к ней возвращаться. А для британцев и французов это Великая война. И все эти названия останутся навсегда.
— Так, может, не стоит трогать мифы, в том числе и советский, закладывая новые основы преподавания истории?
— Нельзя жить мифами. Понимаете, когда в концепции говорят, что 30-е годы при всех издержках сталинского режима были советской модернизацией, я возражаю, считая, что то был сущий ад, а не модернизация. Ведь модернизация — это прежде всего отношение к человеку. Во главу угла необходимо ставить ответ на вопрос: человеку в 1937 году стало лучше жить, чем в 1907-м или хуже? Я отвечаю, что во сто крат хуже. Так какая же это модернизация? Или такой вопрос: хотя бы один лозунг Октябрьской революции был реализован? Да нет же!
Многие хотят, чтобы история была благостной. Но она таковой не бывает. Разумеется, когда в школу приходит десятилетний ученик и на него на уроке истории выливается ушат грязи, это омерзительно. Но тем не менее если изначально человеку все подавать в нейтрально-благостном виде, то он вырастет не желающим знать собственную историю. Да и примирение, о котором сейчас толкуют, тоже будет невозможно.
— Генералу Франко удалось примирить испанцев...
— Во первых, его режим хотя и был отвратительным, но не таким страшным, как режим Сталина. Да, близ Мадрида Франко воздвиг мемориал, где покоятся останки как его сторонников, так и противников. Но сказать, что он раз и навсегда примирил испанцев, было бы ошибкой. Каталонцы, как и баски, как хотели отделиться, так желают этого и сейчас. У нас же я не знаю, к примеру, как примирить Деникина и Троцкого. Возьмите мою историю. Мой прадед был белым, участником ледяного похода, и весной 1921 года в лагере под Архангельском был расстрелян. А дед был офицером Первой конной армии и погиб в годы сталинского террора. Я за кого должен быть: за белых или за красных? Такую печальную историю имеют многие россияне. Достичь примирения между красными и белыми — это благое пожелание. Возьмите того же лидера коммунистов Геннадия Зюганова. Он что, красный? Да нет же. Он — патриот и достаточно религиозен. А классические красные были космополитами и атеистами. Геннадий Андреевич часто употребляет славянофильский термин «соборность». Так кого он наследник — Ленина, Троцкого, Сталина или славянофила Хомякова?
— Концепцию преподавания истории обвиняют в навязывании единообразия в исторических оценках. Вы согласны?
— Этот документ пока дает основание для различных толкований. Учителю, который резко отрицательно относится к ГУЛАГу и сталинским репрессиям, учебник предоставляет возможность высказывать свое мнение. Как и учителю, который имеет противоположную точку зрения.
— Как обществу избежать единообразия в трактовках истории?
— Тут, как мне кажется, существует один рецепт — общество должно бороться за свои интересы. Например, сегодня можно слышать разговоры о необходимости появления некой спасительной государственной идеологии. Но это мы уже проходили. И в 60—70-е годы почему-то мало кто верил в такую идеологию. Общество у нас разное, противоречивое, и именно оно должно отстаивать эту свою разность, противоречивость и свое разное видение истории. Я вообще считаю, что каждое поколение должно ее переписывать. Потому что только через 20 лет станут полностью понятными события конца 80-х — начала 90-х годов ХХ века. Каждое новое поколение обладает новыми данными, новым пониманием и новыми контекстами. История — это прежде всего открытый процесс. Есть закономерности, традиции, коридоры возможностей, но железных законов не существует. Сознание людей постоянно меняется. Еще совсем недавно мы превозносили сталинские стройки века. Потом появилось понимание, что гораздо важнее повседневная жизнь человека. Еще несколько лет назад мы гневно ругали царизм. А теперь склонны говорить, что царь-батюшка был совсем неплох. И сослагательное наклонение — это тоже нормально. Когда мы говорим о том, что «как бы все сложилось, если», то нащупываем тенденцию, которая не реализовалась, но может выстрелить в будущем. Вот почему история никогда не заканчивается. Не только в плане событийного ряда, но и в качестве постоянного осмысления. Невозможно создать какую-то единую и постоянную концепцию, которая все объяснит. Должно существовать с десяток концепций. И только в таком случае можно будет что-то понять.
Самурайка / Политика и экономика / Спецпроект
Самурайка
/ Политика и экономика / Спецпроект
Ирина Хакамада — о том, какая «загогулина» вышла с Борисом Ельциным, о секрете дружбы Борового с Новодворской и волшебном слове для Виктора Черномырдина, о единственном мужчине в российском парламенте, а также о том, какое будущее России увидел в Кремле Билл Клинтон
Вряд ли в России сыщешь другого политика, который бы прошел практически все ступени политической карьеры, причем всего за тринадцать лет. Ирина Хакамада, стартовав как депутат-одномандатник и яростный защитник малого бизнеса, умудрилась побывать и партлидером, и вице-спикером, и министром, и даже кандидатом в президенты. Оттого и разговор вышел долгим, главным образом об изнанке истории, связанной с пришествием либералов в легальную политику, и причинах их хронических неудач.
— Ирина, время правого движения ушло или еще не пришло?
— Пришло. Средний класс растет, особенно в больших городах. Он обрел новый стиль. Ему, конечно, нужна своя партия. Не радикальная — добротная, объединяющая большие силы и серьезных лидеров. Но среда, в которой она будет формироваться, слишком отстает от того, что реально нужно среднему классу.
— Но и в начале нулевых либерально-демократический клан проиграл. Кто виноват? Человеческий фактор или идеи?
— Считаю, что человеческий фактор — объективная причина. Если бы мы в свое время перестали заниматься псевдоидеологической дележкой, то все могло бы сложиться иначе. Но чрезмерность амбиций не позволяла формировать команды. «Яблочники» уперлись: мы никогда не будем с теми, кто делал приватизацию. Другие не хотели сотрудничать с теми, кто выступал за слишком либеральную политику. Либералы задавали вопрос: зачем нам социальное государство? Социал-демократы, в свою очередь, размышляли: зачем нам западные либералы? Нужно было создать систему сдержек и противовесов между либеральной командой и социально ориентированной. Никто не хотел уступать, и все проиграли. Человеческий фактор исторически не дорос до того, чтобы впитать дух перемен.
— А вы, преподаватель марксистско-ленинской экономии и член КПСС, рванули в политику, причем в стан либералов: Константин Боровой сагитировал?
— С Боровым мы познакомились случайно, через общую подружку. Он кандидат наук, я тоже. Он доцент, и я доцент, оба преподаем: он — в институте инженеров землеустройства, я во втузе при ЗИЛе, в таких вот абсолютно маргинальных заведениях. Начали общаться, дружить семьями. Кстати, идея заняться частным бизнесом первой пришла в голову мне. Когда вышел закон о кооперации, я сказала Боровому, что задыхаюсь без денег: двое детей, все очень сложно. Придумала печь вафли — у меня на Соколе продавали эти самые вафли, я посмотрела и подумала: а почему бы и нет? Боровой поддержал идею, но отверг физический труд. Сказал: работать надо головой. Нашел договор по продаже первого софта: автоматизация бухучета на каком-то подмосковном предприятии. Провели переговоры, племянник написал софт, получили первые деньги. И дальше пошло-поехало: как и все, покупали и продавали компьютеры, различную технику. Потом Константин Натанович стал генератором идей: генерировал то торговые дома, то биржу. Я же шла вслед за флагманом и занималась черной работой. Ушла из КПСС, наконец распрощалась с преподаванием. В прибыли от проектов не участвовала — работала на зарплате 500 или 700 долларов. Ничего не знала ни о прибылях, ни о том, какая у кого доля. Я была в стороне, но была большим другом.