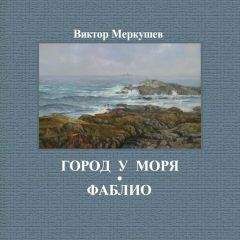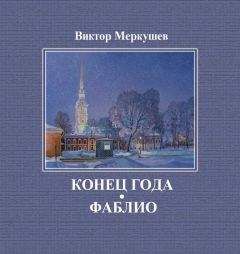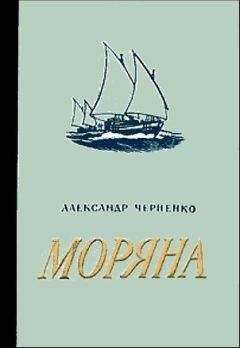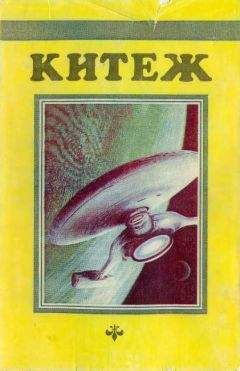Поэтому нужно спешить. Спешить, пока не завяли минутные стрелки часов, которые никогда не показывают время.
Я думаю, в Её жизни всё сложилось бы иначе, не будь этого матерчатого абажура в глубине потолка и полуовального трельяжного зеркала в прихожей. Да, да, особенно зеркала. Его мутноватая амальгама не любила света, разбивая его на тлеющие, чуть заметные радуги, оседающие на поверхности толстого стекла, в том месте, где Она обычно искала своё отражение.
Зеркало никогда не говорило правды, оно очень любило выдавать правое за левое, превращая любое изображение в свою противоположность. Но Ей некуда было спрятаться от лживого зеркала, которое лишь уменьшало
Её в размерах и делало всё более и более непохожей на ту стройную девушку с упругой косой, тёмной, словно южная ночь. Во всяком случае, Она помнила и представляла себя такой, несмотря на то, что зеркалу Она казалась седеющей полноватой женщиной с какой-то глупой старомодной стрижкой.
В то время, когда зеркало ещё не было таким капризным, оно охотно отражало Её друзей и подруг, многочисленных родственников и даже не ленилось показывать радость и счастье, царившее в Её доме.
Теперь же зеркало не отражало никого, кроме Неё, и Она старалась как можно реже заглядывать туда. Потом Она и вовсе закрыла створки зеркала, оставив на дне его мутноватой амальгамы темноволосую девушку с упругой косой и полноватую женщину под матерчатым абажуром и темнеющей жутью потолка.
Обыкновенный комочек глины
Он так и остался бесформенным комком глины, брошенным среди разного хлама, образующего внушительную кушу на полу мастерской. Собратья только смеялись, когда он говорил, что ему дана настоящая душа, ничуть не хуже тех, которые живут в лучших творениях Микеланджело или Родена.
«А впрочем, – кто они, эти его собратья, чтобы судить о таких тонких и глубоких вещах, – утешал он себя, – обыкновенные куски глины! И зачем только шеф бросил меня, неужели он не чувствовал во мне свой будущий шедевр. Ведь стоило только чуть-чуть поработать и… Нет, проглядел мастер свою удачу, и глина-то у меня, между прочим, – первый сорт!»
«Опять за свое! – говорили ему такие же застывшие комья, – молчи и радуйся, что уборщица баба Груша до сих пор не вынесла тебя вместе с сором в бачки для мусора возле нашего дома. Стали бы там с тобой церемониться! Как облепили бы тебя картофельные лушпайки, совсем бы запел по-другому. Благодари Бога, что рядом с тобой такая интеллигентная и порядочная публика».
«Так-то оно так, в мусорном баке мне пришлось бы несладко, но уж больно, друзья, хочется гордо стоять на выставке во славу нашего скульптора Владим Борисыча».
«Хе, чего захотел, вон, – указывали бесформенные кусочки на надменно стоящую женщину с веслом, – вон, нашей прекрасной
Галатее и то такая честь не снилась, а ты – на выставку».
«Уф, – тяжело вздыхал неродившийся шедевр, – но у меня-то, друзья, душа!»
«Душа! – передразнивали его статуэтки и гипсовые маски, – а у нас что? Не будь в нас души, так и валялись бы нераспроданными на прилавке. А то вишь – берут. На базаре, а то и в ларьке мы завсегда готовы служить на потребу покупателя для удовлетворения спроса, так сказать, а ты сидишь и ноешь. Тьфу, касть».
Могли ли знать дешевые фигурки, что через много лет другой скульптор разомнет невзрачный комочек, обратив его своей фантазией в живую форму.
Когда я вижу на экране состоявшихся политиков, излучающих уверенность и оптимизм, я выключаю телевизор, ибо понимаю, что за них не стоит беспокоиться – у них жизнь вполне удалась. Когда же в кадр попадаются оппозиционные политики, я тоже выключаю телевизор, чтобы они не разжалобили меня своей неприкаянностью и неуверенностью в завтрашнем дне, и чтобы у меня случайно не возникло желания дать им немного денег из сострадания.
Всякому, упрекающему меня в аполитичности, я говорю, что надо заботиться в первую очередь о своём деле и о своей жизни, а не проживать чужую, сокрушаясь от проблем, на которые ты никак не можешь повлиять и негодовать и возмущаться оттого, что никто не внемлет твоим прекраснодушным лозунгам и призывам. Я занимаюсь тем, что я хорошо знаю, и делаю то, что получается у меня лучше, нежели у других. Просто я не столь богат, чтобы заниматься политикой, и не столь беден, чтобы ею интересоваться.
Скорее всего, они здесь были всегда, но лишь с какого-то времени я стал различать их повсюду. Это не было простым присутствием, фактом, с помощью которого я смог бы обосновать обратимость времени или многообразие жизненных материальных форм – это был уже не мой мир, в котором бытовали совершенно другие нравственные нормы и иная мораль. Внешне они были очень похожи на людей, может быть, какая-то их часть даже принадлежала к отряду homo sapiens, но только это были люди не моего времени, а пришедшие сюда из какого-нибудь раннего средневековья.
С ними ни о чём было невозможно разговаривать, хотя они и знали все человеческие слова и даже их смысл, однако совсем не понимали человеческих чувств и человеческих мыслей. Они тоже о чём-то думали, даже писали книги и снимали фильмы. Я пытался понять их, но я был чужим в их вселенной. Странно, точно бы никогда и не было моей прекрасной голубой планеты, всякий житель которой мог отличать добро от зла, а красоту от уродства. Пришельцы не могли и не умели этого делать.
Однако они пришли сюда по праву. Природа не понимает тех тревог и тех сожалений, которые присущи моему сознанию и сознанию моих исчезнувших братьев по разуму. Природа тоже, подобно Пришельцам, не знает добра и зла и не умеет отличать красоту от уродства. Этот мир, действительно, должен принадлежать им. А я со своими братьями по разуму – лишь слабое, требующее замены звено, случайно оказавшееся в стальной цепи эволюции, упругой и жесткой, способной подчиняться исключительно грубой силе и закону естественного отбора, тоже основанного на праве сильного.
Её место было за шкафом, рядом с ящиком для старой обуви. Пока Собака была маленькой, ей разрешалось бегать по всей квартире, потом откуда-то появился квадратный коврик, и она стала жить здесь, в коридоре.
Коридор был тесный и пыльный и имел неприятное эхо, отзывающееся глухим подобием её голоса.
Собака хорошо слышала всё, что делалось на лестничной клетке, и что происходило там, в комнате, за стеклянной дверью, откуда вечно тянуло сырым сквозняком с ароматом жареной картошки и лука. Она не любила этот запах, но с лестничной клетки разило кошачьим духом, а это было ещё хуже.
В коридоре вечно горел подслеповатый бра, но Собака знала, когда на улице был день, а когда приходила ночь, и не только потому, что всякий раз в одно и то же время она обходила привычным маршрутом жёлтый дом, зажатый между бетонным забором и жидким березняком, а просто оттого, что ей дано было такое знание.
Собаку уже давно не называли по имени, но она его хорошо помнила, и ей даже казалось, что иногда её кто-то зовёт, манит издалека, только она не верила в это и никогда не оборачивалась на неясные звуки.
Замкнутая на тесный коридор и периметр дома, Собака научилась видеть и чувствовать то, что, скорее всего, не могли замечать остальные. Она различала тысячи оттенков утреннего и вечернего неба, могла многое поведать о запахах прошедших дождей или ветров, приносящих снежную позёмку, едва распустившихся деревьев или влажной весенней земли. Но она никак не смогла бы определить одиночество, поскольку не существовало ничего иного, что бы для сравнения можно было поставить рядом.
В то время, когда полная Луна – божество всех оставленных и одиноких, показывалась через прозрачную комнатную дверь, её тело упруго выпрямлялось навстречу этому внезапному свету и ей нестерпимо хотелось заявить о себе в полный голос, в надежде быть, наконец, услышанной, и, оттого, может, что-нибудь изменить.
Но Луна лишь на мгновение останавливалась в собачьих глазах, продолжая дальше обходить привычным маршрутом Землю, зажатую между безжизненным забором холодных планет и жидкими облаками космической пыли. Нельзя сказать, что Луне не жалко было Собаки, просто ей самой была назначена такая же судьба…
Когда я подошёл к раздаче, там уже стояли дураки. Но их основная сила валила сзади, откуда исходил шум возни и приглушённые крики.
Я было уже почти припал к краю, определённому для раздачи, но какой-то краснорожий дурак оттеснил меня, а другой, оказавшийся рядом, сильно наддал плечом, так, что я откатился за первое полукольцо страждущих. Вмиг набежавшая дурацкая сила и вовсе завершила начатое, отбросив меня с вполне выигрышных позиций далеко назад.
«Делить надо по-честному», – орали некоторые дураки. «Нет, давайте по справедливости», – слышались дурацкие голоса с задних рядов. Те дураки, что были поближе к раздаче, только тяжело сопели и суетливо перебирали руками, что-то, очевидно, пакуя и сортируя.