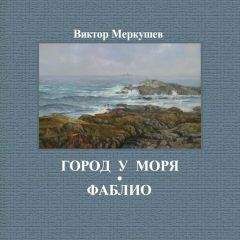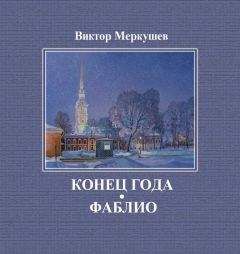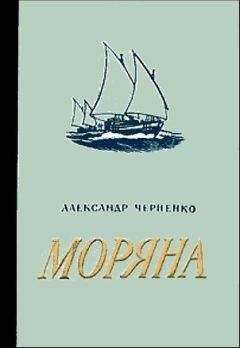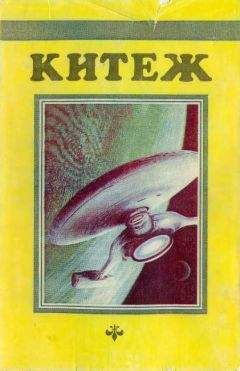Гануш следил, как меняется его рисунок, как одни формы медленно перетекают в другие, и от этого внутреннего движения было сложно отвести глаза.
– Вот дьявол! Как же опрометчиво я загубил целых шесть предложенных мне попыток, получив за своё безрассудство какие-то безделушки. Нет! Этим лепестком я распоряжусь иначе.
– Хочу, хочу… – Мысли у Гануша снова спутались, заспорили между собой, бойко затолкались локтями, вновь и вновь материализуясь в какие-то невозможные вещи, без которых он прекрасно обходился прежде и, естественно, легко мог бы обходиться и впредь.
Гануш больно закусил губу и попытался сосредоточиться. Его голова кипела, и желания, одно бессмысленнее другого, норовили неосторожно сорваться с языка.
– Нет, нет и нет! – отрезал Гануш. Раз я не могу доверить себе такого выбора, то разумно будет предоставить этот выбор самому цветку. – Пусть случится то, о чём я никогда не пожалею! – И Гануш решительно оборвал последний фиолетовый лепесток.
Обычно Гануш не любил ждать. Время ожидания он всегда считал напрасно потерянным и оттого безуспешно пытался хоть чем-нибудь его занять. Очнувшись на узком перроне провинциального городка Гануш сразу почувствовал, что он кого-то или чего-то ждёт. Возможно проходящего поезда, а, может быть дожидается кого-нибудь из его пассажиров или совсем иного события, о котором он пока не имел ни малейшего представления.
Однако вопреки обыкновению он не испытывал никакой мучительной неловкости, напротив, Гануш не замечал даже естественного в таких ситуациях давления времени и не ощущал привычного раздражения и недовольства.
Всё, что окружало Гануша, представлялось ему необычайно занятным, хотя наблюдал он, казалось бы, самые обычные вещи, такие, как традиционные железнодорожные тополя, отгородившие станцию от серых городских многоэтажек, старый приземистый вокзальчик с покатой жестяной крышей, рельсы, бегущие вдоль бурых холмов, бетонные столбы в паутине стальных проводов и громадные металлические фермы, вознёсшие на неодолимую высоту чёрные колбы спящих прожекторов.
Вдруг кто-то словно бы окликнул Гануша, хотя не было поблизости никого, кто бы мог это сделать. Ни выстроившиеся вдоль перрона люди, ни расположившиеся на скамейках – никто не замечал Гануша и было очень тихо, хотя воздух был насквозь пропитан звуками, только это была такая тишина, которую можно было слушать как музыку.
На перроне не было новых лиц, разве что с противоположного края платформы по ступенькам поднималась девушка в платье оливкового цвета, с большой зелёной дорожной сумкой.
Нельзя сказать, что Гануш обратил бы на неё внимание при каких-либо иных обстоятельствах. У неё было очень простое круглое лицо, забранные в пучок светлые волосы и такая тоненькая и лёгкая фигурка, плавно скользящая над пыльным асфальтом, что Ганушу казалось, что она вовсе не имеет никакого веса. Девушка слегка наклонила голову и мельком посмотрела на Гануша. На какие-то доли секунды Гануш поймал этот взгляд, но этого оказалось достаточно, чтобы увидеть в её глазах тёмные озёра, заросшие розовыми кувшинками, синие дубравы, наполненные жужжащими пчёлами и стрекозами, лучистые радуги над мокрыми полями, быстрые весенние ручьи, вспухающие бурыми узлами на замшелом буреломе.
Девушка находилась от Гануша в десятке метров, но Ганушу представлялось, что это расстояние ничто иное, как условность, не имеющая привычного физического смысла. Скорее всего, между ними не было вообще никакой дистанции, ибо в то же самое время он находился не только на пыльном станционном перроне, но стоял с ней на склоне какой-то безлесой горы, где не было слышно ничего, кроме шума падающей воды. Девушка едва касалась его плечом, но Гануш чувствовал, что нет вокруг такого места, которое бы так или иначе не было наполнено её существованием. И горы, и небо, и весь этот открывшийся пейзаж с многочисленными планами, заканчивающийся вдалеке голубым дрожащим горизонтом.
Гануш может быть впервые почувствовал, что вся его память перевернулась и пришла в движение, уравновесившись на весах жизни с этим новым для него событием, которое с большим трудом можно было так обозначить, ибо по сути ничего и не происходило. Только какая разница, как это будет названо, если везде и во всём он видел её лицо, ощущал её внимательный взгляд, узнавал её лёгкие движения. Это было так ново и необычно, что Гануш не понимал, как теперь ему жить в этом новом, обретённом им мире, имеющем её черты, и недоумевал, как быть без этого мира, отмеченного её всечасным и вездесущим присутствием.
Гануш не заметил, как исчез узкий пыльный перрон, приземистый вокзал и все тополя, прячущие за собой серые многоэтажки. Его несла куда-то гудящая толпа, а он растеряно оглядывался по сторонам, сопротивляясь общему движению, будто бы в этом противодействии была сокрыта какая-то осознанная необходимость и одному ему ведомое значение. Душа его была разделена на две половины, одна из которых была пуста, другая оказывалась чреватой нестроением и раздраем.
Ганушу было безразлично, куда идти, он будто бы искал чего-то и нигде не находил себе места. Вдруг в толпе он заметил тоненькую девушку в оливковом платье, которая невесомо скользила над пыльным асфальтом. Что-то подсказывало ему, что они где-то встречались, только Гануш совершенно ничего не мог вспомнить. Однако это было неважно, и его душа неудержимо потянулась к ней навстречу, избыв свою пустоту и замерев в ожидании события, разминуться с которым уже не представлялось возможным. Он решительно направился к девушке, будучи абсолютно уверен, что она не отвернётся, не замешается, не уйдёт. Тем более что он знал, что ей необходимо сказать.
Теперь Радован уже не мог вспомнить, с чего всё началось. Правда, с некоторых пор он стал замечать, что в то время, когда к нему приходила очередная мелодия, в доме начинали слегка позванивать ножи и вилки, как, впрочем, и все остальные тонкие и острые предметы. Может быть, случалось ещё нечто подобное, только в такие моменты Радован становился крайне нелюбопытным и его не интересовало ничего, кроме нот и аккордов, которые он едва успевал записывать, стараясь не пропустить ни единого звука. Вначале Радован не осознавал авторства музыки и страшно гордился собой. Позже он, конечно, понял, в чём тут дело и это стало самым большим разочарованием с тех пор, когда он впервые сел за клавиши. На все похвалы и славословия в свой адрес Радован обычно лишь неловко пожимал плечами и старался как можно скорее покинуть своих, ничего не подозревающих поклонников.
Возможно, Радован чем-то и отличался от коллег, только он не находил в себе ничего особенного, если, пожалуй, не брать в расчёт свою чрезвычайную медлительность и вредную привычку везде и всегда куда-то опаздывать. А ещё он мог неподвижно часами сидеть на диване без всякой пользы для себя. Нельзя даже сказать, что он таким образом предавался праздным и бесконечным мечтаниям. Да и какие там могут быть мечтания, если в голову лез всякий мусор: нелепые музыкальные фразы, которые невозможно сыграть, странные обрывки мыслей, не имеющие никакого смысла, какие-то неясные воспоминания, большей частью порождённые ложной памятью и пришедшие неизвестно откуда и неизвестно зачем.
– Опять бездельничаешь! – упрекали его домашние. – Хоть бы пол подмёл или пыль вытер, а то какой от тебя, бездельника, толк!
Радован нехотя брался за тряпку и начинал механически водить ей по всем встречаемым поверхностям. Нередко случалось, что музыка настигала его даже за таким занятием. Она подхватывала его невидимой мощной волной, сначала поглощая его самого, затем всё пространство вокруг, преображая зримое и незримое под свои нужды так, чтобы ничто не мешало новой симфонии или кантате. На целый мир, с его тревогами, заботами и печалями ниспадал плотный незримый занавес из-за которого к единственному слушателю не проникал ни звук, ни цвет, ни строфа, ни слово. Для Радована не было ничего прекраснее этих волнующих минут ожидания музыки, когда где-то там, вдалеке, он различал знакомые настройки небесных скрипок и виолончелей, когда на едва очнувшуюся от внезапного движения сонную сцену мироздания выкатывался волшебный рояль и кто-то осторожно прикасался к его живым клавишам.
Пожалуй, у Радована не было в жизни ничего более значительного, чем эти счастливые часы и минуты, проведённые у вселенской сцены. Остальное время не приносило ему никаких эмоций и переживаний, оно казалось ему бессодержательным и неинтересным. Возможно оттого, Радован совсем не стремился к общению, он не следил за новостями и модой, его не интересовали ни слава, ни деньги, он был безразличен ко всему, за исключением музыки, струящейся из небесного эфира, которую другие люди отчего-то не могли слышать.
Радован вообще не понимал, зачем существует окружающий мир и это горделивое и самонадеянное человечество, если они не способны дарить, подобно небу, такую же чистую и глубокую музыку.