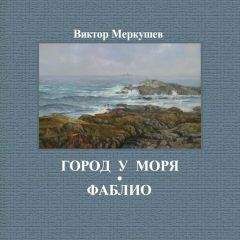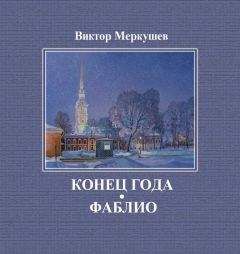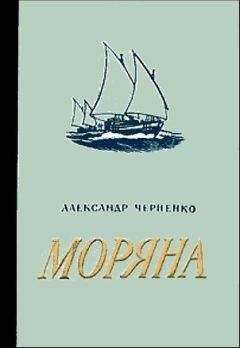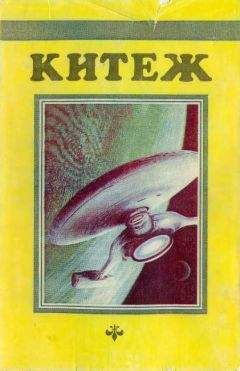Мальчик, Мальчик, ну к чему тебе друзья – невольные свидетели твоего незамутнённого и невесомого сердца? Беги! Не нужно засматриваться в их зыбкие, непостоянные глаза. Или ты полагаешь, что вместе вам будет также легко скользить витиеватыми путями в пространстве мечты? Ты заблуждаешься, с ними можно только затеряться! Оставь их!
Беги, Юноша, беги! Беги мимо милых лиц и восторженных глаз, мимо всех, обожающих тебя, не слушай их призывных речей! Остановишься – очаруешься, очаруешься – ослабнешь… Разве не жалко тебе путей в небе, лежащих вне времени и не подвластных пагубе и пыли земли? Верно, не жалко! Да, её голубые глаза чем-то под стать небу и рыжие волосы похожи на солнечные лучи, только вдвоём не воспарить вверх! Эх, Юноша, не бывает двух светил на одном небе!
Беги, Человек, беги! Мимо кряжей горя и бед, мимо морей ненависти и злобы! Беги, насколько хватит твоих сил. Не останавливайся! Остановишься – исполнишься скорби, ужаснёшься, пропадёшь…
Он мог бы, наверно, бежать, если бы ему не мешали высокие токи земли и не притяжение тех, кого он уже успел поселить в своём сердце…
Она совсем не хотела думать об этом приближающемся событии, но мысли путались, разбредались и неизменно сходились именно на нём, предстоящем праздновании её очередного юбилея. Нельзя сказать, что её пугали эти сухие, беспощадные цифры, открывающие пространство для каких-то бесприютных маршрутов через нехоженность и хлябь, нет, только чувство странной неловкости не оставляло её ни на минуту. Неловкость – пожалуй, именно это слово лучше всего описывало не только её самоощущение, но и, наверное, всё, с чем в последнее время ей приходилось сталкиваться и взаимодействовать.
Взять, к примеру, её ближайших подруг, которые вроде бы и никуда не девались, но только она уже никак не могла представить их себе в прежнем качестве. Они словно тяготились совместным с ней беззаботным прошлым, напрочь отгородившись от неё чем-то сугубо своим, малопонятным, отдельным, неразделимым. Взрослые дети, у которых давно уже была своя обособленная жизнь, почти никогда не тревожили её своими звонками, разве что за исключением случаев, один из которых ей вскоре предстояло пережить. Но она предвидела всю неловкость таких звонков и даже не знала, хотела или нет, чтобы дети помнили о её датах.
Муж в последнее время стал для неё совершенно чужим. Трудно поверить, что когда-то они влюблено бродили по городу их весны и были счастливы любой совместной минутой, радовались всему, что попадалось на их пути и на что они могли вместе смотреть, крепко взявшись за руки. Непонятно, куда делось всё это, отчего сейчас так неловко и потеряно чувствует она, когда остаётся с ним наедине.
Но вся эта неловкость предстоящего события наиболее зримо ожидала обнаружить себя в рабочем коллективе, где давно уже её не воспринимали всерьёз, оставляя ей самую неблагодарную и рутинную работу. Она в деталях представляла себе всё: и традиционное убожество праздничного стола, и озабоченные лица коллег, выказывающих в своём снисходительном присутствии что-то похожее на внимание и уважение, и небольшой букет слегка подвядших роз… И то неловкое всеобщее ожидание обеденного перерыва, когда она наконец-то будет великодушно отпущена со своего такого долгого и нелепого праздника.
Ей никак не удавалось понять, откуда же взялась эта вездесущая и непроходящая неловкость, и что же такого нужно делать, чтобы не бояться этих страшных дат и чисел, которых невозможно избежать всем тем, кому представилась такая удивительная и редкая возможность – жить на этой земле.
«Какой ты сегодня красивый, Мирко! И денёк нынче выдался вполне тебе под стать – золотоволосый, голубоглазый. Вот так бы было всегда».
Мирослав остановился. Далёким, полузабытым счастьем повеяло от этих слов, прилетевших невесть откуда и закружившихся вокруг его рыжей головы вместе с шелковистыми парашютиками одуванчиков.
“ Ну, скажешь, прямо! – пробормотал, смущаясь, Мирослав, отвечая своему незримому собеседнику, однако мечтательная улыбка всё же коснулась кончиков губ, сделав его чуть похожим на прежнего красавчика-Мирко.
Со студенческих лет он не слышал этого приветливого, доброго – «Мирно», да ещё произнесённого так искренне, так естественно, будто бы не было для этого кого-то, человека ближе и интересней, чем Мирослав. И словно бы не существовало этих нелепых тридцати лет, пролетевших с того момента, когда он в последний раз стоял здесь, возле институтского здания, утопающего в цветущем жасмине и дыме от крошечных парящих сфер белых одуванчиков.
Мирно зачем-то поднял голову и увидел прямо над собой в паутине переплетённых проводов поржавелую табличку «Трамвай № 53».
– Вот те на! – присвистнул озадаченный Мирно, – а ещё говорили, что в городе больше нет трамваев! А тут, как в прежние времена – знакомый маршрут.
И верно, вскоре Мирослав услышал старомодное позвякивание и увидел раскачивающийся на рельсах вагон, выкрашенный в привычную трамвайную киноварь. Трамвай скрипнул архаической тормозной колодкой и остановился прямо подле красавчика-Мирко.
Мирослав не без труда поднялся на высокую ступеньку со стёртой резиной и сел на свободное место.
Всё его существо было пронизано беспричинною радостью бытия. Мирко казалось, что вместе с ним радовалось чем-то схожее с ним золотоволосое солнце и голубоглазое небо, да и сам город юности улыбался ему через мутноватое трамвайное стекло.
Мирко был так счастлив, что не замечал никого вокруг себя, он кивал приветствующим его зданиям, наряженным в солнечные мантии и украшенным причудливыми балконами и антеннами, подмигивал зелёнооким светофорам и сигналящим в его честь проезжающим автомобилям. Тридцать лет не видел Мирко этого города, только так и не смог заметить в нём никаких перемен: по бокам заасфальтированных дорожек теснились громоздкие чугунные скамейки, на бульварах и площадях по-прежнему синели клумбы анютиных глазок, окаймлённые бурым кирпичом, а улыбающиеся Мирко прохожие были одеты также, как и во времена его далёкой студенческой юности.
Мирко никак не мог надышаться этим внезапным воздухом счастья, который бодрил его, словно утренний бриз и наполнял такой невероятной лёгкостью, что Мирослав совсем не ощущал своего тела. «Что это и откуда, – думал Мирко, – отчего так много света и откуда столько белого: столько цветущих кустов, летающего тополиного пуха, ромашек и колокольчиков, белых тротуаров и торжественных, ослепительно белых стен!» Мирко поближе придвинулся к стеклу, чтобы получше рассмотреть встречный трамвай с какими-то веселящимися и беззаботными детьми и в промельке трамвайной тени в стеклянном отражении увидел своё лицо. Кто когда-то знал красавчика-Мирко, тот запомнил его именно таким – голубоглазым, с весёлыми ямочками на щеках, чуть тронутых маленькими звёздочками веснушек, с непокорными локонами волос, отливающих тёмным золотом. Мирко оглянулся.
Какие-то странные люди с понимающими улыбками смотрели на него, только было в их взоре нечто такое, что заставило Мирко отвести глаза. «Выйти, выйти, бежать отсюда!» – собиралось где-то у Мирко внутри, пока, наконец, мощной, упругой волной его не бросило к выходу. Он начал биться о закрытые двери, дергать за полуистлевшие гофры, тянуть за ручку, пытаясь сложить дверные створки и выскочить наружу.
– Отсюда нет выхода, – проскрипел у него над ухом сухой старческий голос.
Мирко рванул к вожатому, но в водительской кабине не было никого, лишь за лобовым стеклом он увидел причудливые белые узоры, которые пенились и растекались словно летние, лёгкие кучевые облака.
– Надо же! Не обманула-таки меня старая ведьма, – сокрушался Гануш, хотя, казалось бы, здесь подобало радоваться – ведь цветик-семицветик действительно исполнял желания, и груда вещей, валявшихся у него под ногами, неоспоримо доказывала тот факт, что цветок подлинный. Гануш с ненавистью смотрел на эти случайные и, по правде говоря, не нужные ему предметы и досадовал на своё неверие. Испытывать цветок более не имело никакого смысла. Он злобно нащупал ногой ближайшее обретение, которое получил посредством собственной глупости, а это был позеленевший медный кувшин, отрытый из-под цветущего папоротника, и от всей души поддал его носком ботинка.
– На кой ляд мне этот хлам! – негодовал Гануш. Не будут же мне каждый день дарить цветы, исполняющие желания. Выпросить у цветка хотя бы что-то одно, только настоящее, истинное, о чём я никогда не пожалею!
Гануш заворожено смотрел на последний лепесток диковинного растения. Он был тёмно-фиолетовый, как южная ночь, и на его атласной поверхности тлел вселенским огнём далёких галактик тончайший слой розовой пыльцы.
Гануш следил, как меняется его рисунок, как одни формы медленно перетекают в другие, и от этого внутреннего движения было сложно отвести глаза.