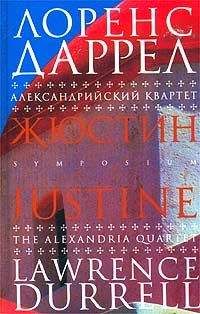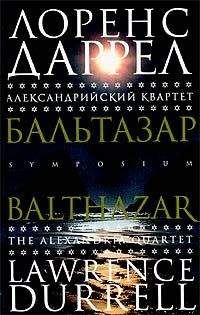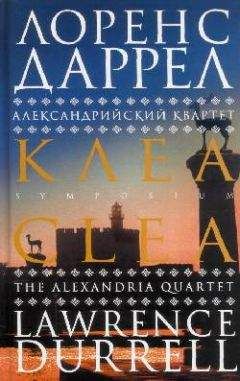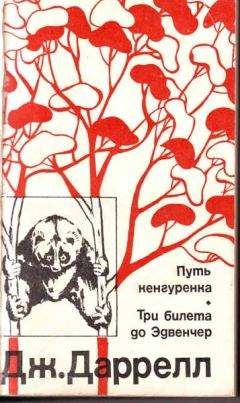Уже в «Погребении мертвого» Элиот возводит фундамент таротной символики поэмы, в дальнейшем разработанной Дарреллом в романах «Квартета». В обильно сдобренном характерной элиотовской иронией (воспринятой и Дарреллом, но в более «солнечном», «средиземноморском» варианте) гадании мадам Созострис появляются уже знакомые нам фигуры: Колесо, т. е. Колесо Фортуны Книги Таро, «человек с тремя опорами» — таротный Отшельник, опирающийся на посох и «оттеняющий» в «Квартете» Дарли, одноглазый купец, мистер Евгенидес из Смирны, даррелловский одноглазый Дьявол, Да Капо. (Недаром он уезжает заниматься своей черной магией именно в Смирну, хотя есть места и поближе к Палестине. С другой стороны, в профиль, т. е. одним глазом к зрителю, повернуты в Таро еще две важнейшие в данном случае карты — Дурак и все тот же Отшельник; шутка вполне в духе Элиота — и Даррелла.) Белладонна, «Владычица Скал, владычица обстоятельств», ассоциируется с Высокой Жрицей — аналогия проведена через итальянское имя одной из Парок (Время!) и далее к Джоконде Леонардо, сидящей меж двух горных пейзажей, на одном из которых поток струится вольно, на другом же — скован мостом (Высокая Жрица сидит на троне — этот трон появится в самом начале второй части поэмы — между двумя каменными столпами, Якином и Боасом, символизирующими в общем виде так называемые Активный и Пассивный Принципы; лицо ее скрыто под вуалью, и единственное, что можно видеть, — улыбка).
Но в «Бесплодной земле», как и в «Александрийском квартете», эта горсть таротных символов, небрежно высыпанная перед читателем, служит лишь намеком на направление поиска действительного сюжета поэмы. Мадам Созострис только называет выпавшие карты, пояснить их смысл она не в состоянии (так и Бальтазар в «Квартете» будет бессилен расшифровать сущность открытых ему «карт» Александрии). Она видит мертвого (ср. название первой части поэмы) — утопленника, финикийского моряка, предсказывает смерть от воды, но тщетно ищет Повешенного. Между тем уже в первой части начинается движение смыслов, параллельное все тому же таротному пути восхождения души; пародийное противопоставление гадательного и «философского». Таро также «подсмотрено» Дарреллом у Элиота. И начинает оно, как и в «Квартете», со смерти. В элиотовском «городе мертвых» («I see crowds of people, walking round in a ring»[47] — ср. с общемистическим представлением о неспасенных душах, вечно выходящих из мира и возвращающихся в него) возникает разговор о некоем мертвом, так же как в «Жюстин» возникнет разговор о самоубийстве Персуордена: «That corpse you planted last year in your garden, has it begun to sprout?»[48]
Связь с мифологемой умирающего и воскресающего бога, которому предстоит оживить бесплодную землю весной, очевидна и не раз отмечалась критикой. В пятой части поэмы, после «плача о дожде», как обещание возрождения и в самом деле появляется «кто-то третий» — Христос, идущий рядом с учениками по дороге в Эммаус. Но вот для понимания следующей фразы необходима, на мой взгляд, логика таро. «Oh, keep the Dog far hence, that's friend to men, Or with nails he'll dig it up again!»[49] Откомментированная самим Элиотом подмена Волка на Пса и врага на друга в цитате из трагедии Джона Уэбстера «Белый Дьявол» («The White devil», 1612) ничего не объясняет, если не иметь в виду Луну, XVIII аркан Таро, где оба эти персонажа, Волк и Пес, символизирующие соответственно Природу Дикую и Природу, Подчиненную Человеком, обнаруживают куда как ясно исконную свою единосущность и наклонность к бунту против самозваного «божка вселенной». Есть у Пса в Таро и еще одна роль — спутника при Дураке, он же Влюбленный, он же Повешенный. Зерну нужно время, чтобы в смерти созреть для новой жизни: вспомним Персуордена («Квартет» может служить прекрасным комментарием к внутренней логике элиотовской поэмы), взявшего перед самоубийством яд, «чтобы отравить пса». Что ж, кесарю — кесарево. И не является ли финальное обращение к «лицемерному читателю»: «Подобный мне — брат мой» — обращением к этому самому Псу, потерявшему след Хозяина?
Связь второй «ритуальной» смерти «Квартета» — несчастного случая с Клеа в море — со «Смертью от воды» сомнений не вызывает, как и то обстоятельство, что таким образом сама Клеа, а вместе с ней и Дарли, еще раз привязываются к пути восхождения души, на этот раз уже через аллюзии на Элиота. Но замечу попутно, что Клеа, как и Флем, элиотовский финикийский моряк, гибнет в соленой морской воде этого мира (вспомним «подводную» символику у Даррелла, своеобразно перекликающуюся с этой темой «Бесплодной земли»), в то время как иссушенное царство Короля-Рыбака ждет от Неба истинной живой воды.
Но элиотовский спасительный дождь, как и даррелловский, не для царства мертвых, а для тех, кто способен из него выйти. Христос, воскресший Бог (напомню еще раз, на всякий случай, об аналогии с Повешенным), идет у Элиота рядом с идущим (у Даррелла — Персуорден, сопутствующий другим воплощениям Художника). Миру же остаются лишь пустые оболочки — вот, мне кажется, смысл Элитова Datta — «дай», первого слова тройного ДА, прозвучавшего в «Так сказал гром», и «самодвижущаяся» судьба Персуордена созвучна ему.
DA
Datta: what we given?
My friend, blood shaking my heart,
The awful daring of a moment's surrender
Which an age of prudence can never retract.
By this, and this only, we have existed
Which is not to be found in our obituaries
Or in memories draped by the beneficent spider
Or under seals broken by the lean solicitor
In our empty rooms.[50]
Что же касается остающихся в мире, то их удел — еще один таротный символ, настойчиво повторяющийся в пятой части поэмы: Падающая Башня. Среди пяти городов, перечисленных у Элиота рядом с первым упоминанием о ней, — Александрия. А последняя строфа поэмы, в которой также встречается этот образ, прямо посвящена остающемуся в мире, неспасенному Королю-Рыбаку, которому, как и его стране, закрыт путь к живой воде вследствие статичности, лености духа. Элиотовский Король-Рыбак незримо присутствует и в «Клеа», «оттеняя» Нессима и Маунтолива, связанный с ними общей отсылкой к Падающей Башне. Есть связь и более явная: Маунтоливу в последних двух романах тетралогии постоянно сопутствует эпитет «темный принц» — под этим именем его ждет и обретает Лайза Персуорден. Комментирует завершение александрийского пути Маунтолива и следующая строка поэмы: «These fragments I have shores against my ruins».[51] Кроме того, Падающая Башня достаточно часто фигурирует у Даррелла просто как символ смерти, несчастья, упадка и краха, исподволь готовя финальные аллюзии на Элиота. Так, планируя в романе «Маунтолив» свою неудачную шутку, Бальтазар, всевидящий и всезнающий «дух места» (ведь до финального развенчания его в «Клеа» еще далеко), назначает свидание двум заочно влюбленным на развалинах старой башни, пренебрегая столь явным знаком опасности, — стоит ли удивляться трагическому исходу этой истории?
И еще одна деталь «Квартета», которая, на мой взгляд, может намекнуть читателю на один из множества своих смыслов через аллюзии на пятую часть «Бесплодной земли». Среди нескольких постоянно циркулирующих в «Квартете» неодушевленных предметов, наделенных правами едва ли не персонажей (учитывая «вещную» природу даррелловских героев, преодолеть этот барьер нетрудно), — ключ. Помните, в «Жюстин» Дарли, бредущий как-то вечером по городу, натыкается на Бальтазара, который ползает на коленях по мостовой. Бальтазар потерял ключ от карманных часов, сделанный в форме «анкха», древнеегипетского символа жизненной и оживляющей силы. Хронометр дорог Бальтазару как память, но Дарли подозревает, что дело здесь в другом: Бальтазар, хранитель тайн Города, очевидно, как-то связан и с оживляющим неподвижность александрийских архетипов Временем. Это, кстати, первая их встреча. Впоследствии окажется, что ключ был украден (а затем возвращен) кем-то из семейства Хознани в попытке, впрочем бесплодной, самостоятельно проникнуть в александрийские тайны. Ключ фигурирует в «Квартете» еще несколько раз, но сейчас нас интересует одна из сцен романа «Маунтолив», в которой сэр Дэвид, попавший в детский бордель, оказывается заперт в комнате с потерянными детьми Города и тщетно умоляет заманившего его в ловушку демона — старого «шейха» — повернуть ключ с наружной стороны двери и выпустить его на волю. Эта сцена приобретает, как мне кажется, некоторые дополнительные смысловые оттенки в свете аллюзии на обращенное к «прорвавшимся» элиотовское «даядхвам», «сочувствуй», — второе ДА.
DA
Dayadhvam: I have heard the key
Turn in the door once and turned once only
We think of the key, each in his prison
Thinking of the key, each confirms a prison
Only at night fall, aethereal rumors
Revive for a moment a broken Coriolanus.[52]
Проблема времени и «геральдическая вселенная»
Тема времени, которая звучала лишь фоном в «пространственных» романах «Квартета», поданная через тему памяти в лирических монологах «Жюстин» и «Бальтазара» или сведенная на нет объективной линейностью повествования в «Маунтоливе» (исключая островки эссеистики), становится одной из центральных в последнем романе тетралогии. И в этом Даррелл также следует примеру Элиота, у которого данная тема, заявленная в «Погребении мертвого», подхватывается и разрешается только в последней части поэмы. В первой части противопоставляются «внешние», «социальные» иллюзии и беды человечества его истинной, «внутренней» изначальной иллюзии и беде — Времени.