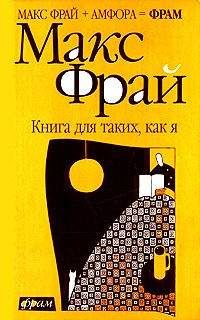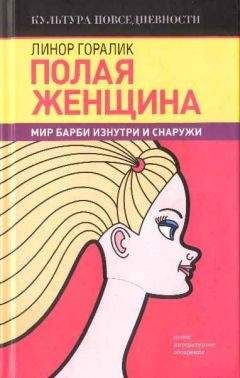Но здесь и в самом деле можно погибнуть!
1999 г.
Был сентябрь, и я как одержимый кружил по старой Праге, а по вечерам, с трудом разбирая мелкие буквы, читал Гарсиа Лорку, спрятавшись от добродушных сувенирных Големов в ветвях гостеприимной ивы, растущей на берегу Влтавы. Прага оказалась колдовским городом. Там (особенно, если прихватить с собой в дорогу карманные издания хороших стихов) легко научиться не бояться смерти:
Когда умру,
стану флюгером я на крыше,
на ветру.
В Праге перспектива стать флюгером совершенно не пугает, скорее уж наоборот — обнадеживает. Призраки, которые бродят по ночным улицам Праги, счастливчики, какими бы драматическими подробностями ни изобиловало их посмертное бытие.
Прага, кстати сказать, — настоящий новый Вавилон. Смешение языков породило своего рода туристический пиджин, достойный центра Европы: все присутствующие понимают друг друга ровно настолько, чтобы процесс товарно-денежного обмена протекал без проблем, а большего и не требуется. Я сам стал автором лаконичного полилингвистического заявления, каковым горжусь по сей день: "Мадам, кава капут". Объясняю: у меня в чашке иссяк кофе, а душа требовала продолжения банкета.
Невероятная, почти неуместная красота Праги удачно уравновешивается изобилием забавных бытовых эпизодов, каковые, очевидно, в тех местах совершенно неизбежны: мой личный опыт в этом отношении совпадает с наблюдениями моих многочисленных предшественников. Забавное и вечное смешано там в правильной пропорции — если (что вполне в духе каббалистической традиции) считать мир, в котором мы живем, беспорядочными черновиками Бога, то Прага — удачный абзац, который будет без изменений переписан в окончательный вариант Книги. Возможно, именно поэтому в существование Праги почти невозможно поверить: этот город — меньше, чем сон… потому, что это — чужой сон.
В Праге я почему-то читал Гарсиа Лорку — и только его, развеянного ветрами, того, кто однажды сказал о себе: Смотрите — у меня в руках пламя. Я понимаю его, я владею им, но не могу говорить о нем. Призрачные улицы его Кордовы и Севильи то и дело сбивали меня с толку, причудливым образом пересекаясь с пражскими переулками. Многочисленные карты Праги (я с маниакальной одержимостью неофита покупал их примерно по две-три штуки в день) служили скорее первобытными талисманами, придававшими мне некоторую уверенность в себе, чем путеводителями. Возможно, именно в этом и заключается таинственное предназначение литературы: сбивать нас с пути, кружить голову, выбивать почву из-под ног, превращать надежные путеводители в бессмысленные сувениры…
Главное в этом метафорическом путешествии (как, впрочем, и в обычной поездке) — не брести вслед за экскурсоводом. Массовый туризм, в отличие от индивидуального, смешон, жалок и не сулит ничего, кроме усталости.
1999 г.
Никакой крепости здесь поблизости нет
Роман Дино Буццати "Татарская пустыня" я склонен считать своим персональным наваждением.
Сам Дино Буццати полагал себя наследником Эдгара По и готических романов; исследователи (включая Борхеса) хором твердят о влиянии Кафки. Здесь тоже во всем чувствуется предвосхищение, но это предвосхищение гигантской битвы, пугающей и долгожданной, — пишет Борхес в предисловии к "Татарской пустыне". И добавляет: На своих страницах Дино Буццати возвращает роман к его древнему истоку — эпосу. Пустыня здесь — и реальность, и символ. Она безгранична, и герой ожидает полчищ, бесчисленных, как песок.
Я же, со своей стороны, замечу: весьма символично, что когда (на самых последних страницах романа) все-таки начинается долгожданная битва, Джованни Дрого уже едва способен встать с постели, побежденный древнейшим врагом рода человеческого — старостью. Он дождался битвы, обещанием которой очаровала его Татарская пустыня, но у него уже нет силы — не только для того, чтобы сражаться, но даже подняться на смотровую площадку, чтобы наблюдать за чужой битвой. Ослабевшего и уже ни на что не годного, его отсылают из крепости; в полном одиночестве (денщик и солдаты на козлах — не в счет). Дрого спускается с вершины, на которую когда-то в юности взбирался с трепетом, бесстрашием и упорством, достойным лучшего применения. Там, внизу, в придорожном трактире его ждет "новая, последняя надежда" и последняя (она же — единственная в его неудавшейся жизни) битва.
Да, на Дрого наступал его последний враг. Не люди, подобные ему, терзаемые, как и он, страстями и страданиями, не люди из плоти, которую можно ранить, с лицами, в которые можно заглянуть, а нечто всесильное и коварное. <…> Это не то сражение, после которого возвращаешься солнечным утром увенчанный цветами и молодые женщины дарят тебе свои улыбки. Здесь нет зрителей, никто не крикнет: браво1.
Дрого переступает "границу тени" с улыбкой, которую никто не увидит. Дурацкая, в сущности, история. Но что мы, люди, способны противопоставить вечности, кроме вот таких дурацких историй? Делаем что можем.
Многими страницами раньше друг Дрого лейтенант Ангустина умирает, успев выговорить: Надо бы завтра… Странный роман Дино Буццати, холодный как дыхание призраков, чей волшебный кортеж явился за Ангустиной, похож на эту реплику умирающего, оборвавшуюся в самом начале: читатель волен завершить фразу как ему заблагорассудится, он волен также заключить, что и этого не было, и отправляться пить чай.
Почему я не могу писать об этой книге связно? Что за наваждение? Нагромождения букв — песчинки моей Татарской пустыни. Зыбучие пески…
И все же.
Величайший кошмар человеческой участи описан в романе Дино Буццати с ужасающей лаконичностью и заключен в несколько слов: Какой жалкий финал, и ничего уже не поделаешь. Это — точная формула личного апокалипсиса каждого из нас.
Надо бы завтра…
1999 г.
Ярлык "короля ужасов" с некоторых пор намертво приклеился к Стивену Кингу, мне же кажется, что настоящим королем ужаса был и остается несравненный Рэй Брэдбери. Ему удалось написать несколько действительно страшных вещей; одна из них — повесть "Лед и пламя".
Напоминаю: место действия — первая от солнца планета, действующие лица — люди, жизнь которых длится всего 8 дней. Подробности скупы (и оттого выглядят вполне достоверно). Счастливый финал: один из многих, "пятитысячный в долгом ряду никчемных сыновей" находит способ устроить побег из "условий задачи". По-настоящему (без голливудской пошлости) счастливый финал почти всегда в той или иной степени бывает связан с темой побега…
Рождение мгновенно, как взмах ножа. Детство пролетает стремительно. Юношество — будто зарница. Возмужание — сон, зрелость — миф, старость суровая быстротечная реальность, смерть — скорая неотвратимость1.
Все правда. Именно так и протекает наша жизнь. Фантаст Рэй Брэдбери оказался правдивее своих коллег. Он пугающе точен — какой бы по счету от солнца ни была наша планета. Теоретически восемьдесят лет — намного больше восьми дней… но это не имеет ровным счетом никакого значения в тот миг, когда отпущенный срок иссякает. Время, якобы отпущенное нам, — величайшая иллюзия. Это мы «отпущены» ему. Отданы во власть несущего нас потока и ослеплены иллюзией самостоятельного плавания. Конечно, восемь дней жизни, отведенные героям безжалостного Рэя Брэдбери, — срок, граничащий с абсурдом. Зато и иллюзий на сей счет они, в отличие от нас, не питают. Возможно, именно поэтому повесть Рэя Брэдбери завершается фразой: "Кошмар наконец кончился".
Нам такой финал вряд ли светит.
1999 г.
Час наслаждения бататовой кашей
В рассказе Акутагавы Рюноскэ "Бататовая каша" повествуется о бедном (беднейшем из бедных) самурае, имя которого, по словам автора, в старинных хрониках, к сожалению, не упомянуто, а потому Акутагава называет своего горемычного героя просто «гои» — согласно его невысокому званию.
В самурайских казармах на гои обращали не больше внимания, чем на муху. Даже его подчиненные — а их, со званием и без званий, было около двух десятков — относились к нему с удивительной холодностью и равнодушием. Не было случая, чтобы они прервали свою болтовню, когда он им что-нибудь приказывал. Наверное, фигура гои так же мало застила им зрение, как воздух1.
Этакий Акакий Акакиевич японского разлива, одним словом. Ничтожный человечишко. Классический случай.
Но было бы ошибкой утверждать, будто у героя нашего рассказа, у этого человека, рожденного для всеобщего презрения, не было никаких желаний. Вот уже несколько лет он питал необыкновенную приверженность к бататовой каше. <…> Поесть до отвала бататовой каши было давней и заветной мечтой нашего гои2.