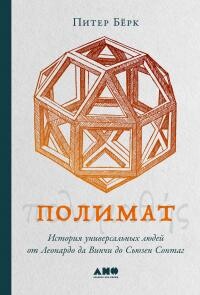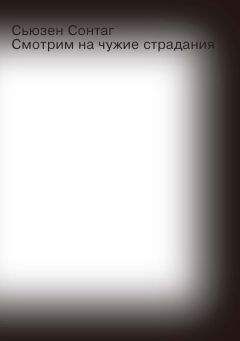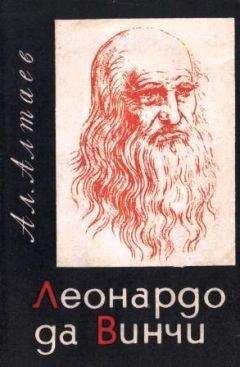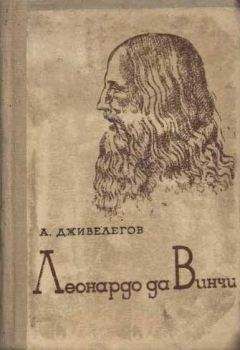«Все – из частиц, а целого не стало» [283]. Осознание интеллектуальной фрагментации и страх перед ней наглядно отображены в поэме «Анатомия мира» (An Anatomy of the World, 1611) Джона Донна [284]. Ученые выражали сходные опасения. Полимат Джон Селден отмечал, что разные области знаний оторвались друг от друга, хотя, как показывал его собственный путь в науках, «каждая из них настолько связана с другими, что не только часто прибегает к помощи соседней, но и, через нее, к помощи тех, о которых не знает» [285]. В свою очередь, пуританский богослов Ричард Бакстер сетовал: «Мы делим искусства и науки на части согласно узости наших способностей и не настолько универсально мудры (pansophical), чтобы увидеть целое (uno intuitu)» [286]. Конечно, есть риск вырвать эту ремарку из контекста. Бакстер говорил о способностях человека, противопоставляя «нас» Богу и, возможно, ангелам. В то же время момент появления этого комментария, середина XVII века, определенно показателен, как и отсылка к пансофии, движению, которое следует – наряду со всем прочим – интерпретировать как ответ на фрагментацию.
Необходимость видеть целое подчеркивалась другими учеными, такими как английский теолог Томас Фуллер и полимат Исаак Барроу. Фуллер утверждал, что ученость «имеет настолько гомогенное тело, что все ее части взаимно служат друг другу и сообщают друг другу силу и красоту» [287]. В трактате «О прилежании» (Of Industry) Барроу писал, что «вряд ли можно назвать хорошим ученым того, кто не обладает общими знаниями». Универсальное знание необходимо в силу того, что сам Барроу называл «связью вещей и зависимостью идей», так что «одна часть учености проливает свет на другую» [288].
Ян Коменский предлагал в качестве решения проблемы свою идею пансофии, тогда как для Морхофа пансофия сама была проблемой или по крайней мере ее частью. Его решение заключалось в том, чтобы отказаться от нее вместе с полиматией, которая казалась ему слишком претенциозной и расплывчатой с учетом «ограничений человеческого ума» (mentis humanae angustia). Особенно негативно он относился к ученым, которые пытались одновременно «обитать» во всех дисциплинах, и предостерегал своих читателей от чрезмерных амбиций. «Те, кто хотят жить везде, не будут жить нигде и не будут повелевать ничем, либо, в лучшем случае, вскользь ознакомятся со многими местами» (qui nusquam habitabunt, nusquam dominerunt, si ubique habitare volent, aut levi percursatione plurime attingent). Идеал Морхофа был куда более узок: historia literaria, иными словами, история учености, или, более точно, ученость, достигаемая через изучение ее истории [289].
Другой английский священник, Мерик Казобон, сын знаменитого ученого Исаака де Казобона и тоже полимат, занимавшийся теологией и натурфилософией, издававший античные тексты и изучавший древности и медицину, в 1668 году написал очерк о том, что сам называл «универсальным знанием» (general learning). В нем он «с мрачным предчувствием» отмечал «упадок учености и великую опасность наступающего варварства». Казобон датирует этот упадок началом XVII века – иными словами, временем жизни своего отца – на основании того, что быть настоящим ученым стало гораздо тяжелее, чем раньше: «от человека, стремящегося стать значительным… требовалось так много труда, так много прилежания, что это могло напугать любого, кого Господь не наделил особенной отвагой и в то же время телесной силой» [290]. Возможно, сын проецировал свое ощущение неполноценности в сравнении с отцом на все столетие. Как бы то ни было, Казобон был не одинок в своих опасениях.
Полиматы под шквалом критики
Пожалуй, сейчас будет полезно вернуться к полиматам, упомянутым в этой главе, и на этот раз посмотреть не на их достижения, а на их слабые стороны. Как мы видели, критическое отношение к полиматии старо, как Древняя Греция, но оно усиливается в конце XVII – начале XVIII века, и это тоже признак кризиса.
Гилберт Бёрнет писал Лейбницу, что «очень часто те, кто занимаются сразу многими вещами, слабы и поверхностны во всех них» (Лейбница он исключал из этого обобщения). Самого Бёрнета тоже критиковали за этот недостаток. Он «задерживался в одной из дисциплин ровно до того момента, когда получал о ней некоторое представление», предпочитая «казаться знающим многие вещи, а не какую-то одну, но в совершенстве» [291]. В свою очередь, Ньютон осуждал Гука, поскольку тот «не делает ничего, а только притворяется и хватается за все подряд», вместо того чтобы приводить доказательства своих гипотез [292].
Virtuosi, как и «антиквары», коллекционеры с более узкой специализацией, тоже иногда подвергались критике за то, что в погоне за деталями упускали истинное знание. Например, Ганса Слоана, успешного лондонского врача, обладавшего огромной и разнообразной коллекцией (включавшей, в частности, 32 000 медалей и 50 000 книг), называли «магистром обрывков, подхваченных то здесь, то там или вычитанных из той или иной книги, причем все это перемешалось у него в голове» [293]. Иными словами, Слоан собирал знания и факты тем же способом, что и материальные предметы.
Синдром Леонардо
Многие полиматы страдали от того, что можно назвать синдромом Леонардо. Как мы видели, Леонардо был печально известен тем, что брался сразу за много проектов, но мало что доводил до конца. В принципе, он был «ежом», поскольку видел связи между самыми разными областями знаний, но на практике вел себя как «лис», распыляя свои силы. То же самое можно сказать о Пейреске. Гассенди отмечал, что разнообразие интересов его друга и стремление узнавать все больше и больше мешало ему даже просто начать писать, не говоря уже о завершении конкретных начинаний. Лейбниц критиковал другого полимата, Иоганна Иоахима Бехера, называя его «занимающимся слишком многими вещами» (polypragmon) [294]. Кирхер тоже пытался делать слишком много и как-то жаловался на чрезмерную занятость, из-за которой не знал, за что хвататься: «Я не знаю, на какую дорогу свернуть» (ut quo me vertam nesciam) [295].
Кажется, даже Лейбниц ощущал переутомление от своих разнообразных интересов. Оборотной стороной энтузиазма, с которым он брался за разные начинания, было их свойство «расти как снежный ком, достигая огромных размеров» [296]. Его история гвельфов, например, не ограничилась Средневековьем, как автор планировал вначале, а разрослась вспять, до тех времен, которые впоследствии стали называть «доисторическими». Отвечая на вопрос о своих замыслах, Лейбниц устало писал другому полимату, Плациусу: «Я стремился ко многому, но ничего не довел до совершенства и ничего не закончил». Спустя двадцать лет, в письме к тому же Плациусу, он заявил: «Я зачастую не знаю, за что взяться в следующий раз». Другому своему корреспонденту он жаловался на то, что его внимание «разрывается между слишком многими вещами» [297].
Фигуры меньшего масштаба сталкивались с той же проблемой. Virtuoso Джон Ивлин, например, задумал, но не закончил историю ремесел и энциклопедию садоводства. Роберта Гука называли лондонским Леонардо в хорошем смысле слова, но можно утверждать, что и он страдал от одноименного синдрома. Даже благожелательно настроенный биограф описывал Гука как человека, который «имеет привычку браться за слишком многое» и «чья разносторонность обрекала его всегда бить чуть-чуть мимо цели» [298].