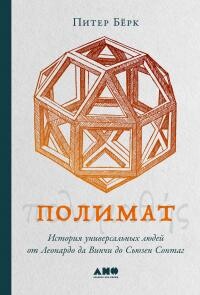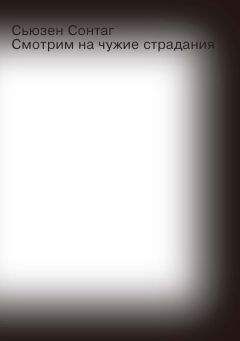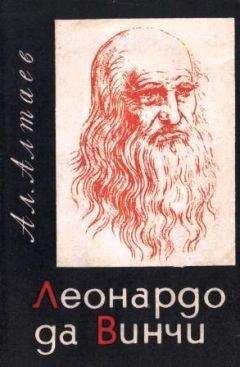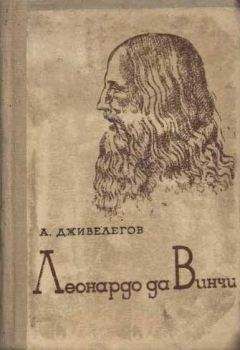Достижения Кристофера Рена, друга Гука, безусловно, очень весомы (среди них собор Св. Павла), но и у него были незаконченные проекты, в частности трактат об архитектуре. В одном исследовании, посвященном вкладу Рена в математику, он назван «дилетантом», которому «разнородность интересов помешала достичь высот, достойных его таланта» [299]. Мексиканский полимат Карлос де Сигуэнса-и-Гонгора, несмотря на свои интеллектуальные амбиции (или именно из-за них), «не смог опубликовать ничего, кроме эпизодических памфлетов». Биограф Луиджи Марсильи отмечает «необычайную широту его интересов», но при этом пишет, что иногда он «внезапно терял всякий интерес к одной работе и переключался на какую-то другую» [300].
Несмотря на их замечательные достижения, гиганты научного мира XVII столетия могут рассматриваться как своего рода лакмусовая бумажка, выявляющая проблемы, которые со временем будут становиться все более серьезными. В ответ на эти проблемы на первый план в XVIII и в первой половине XIX века вышел более ограниченный идеал универсального знания: идеал литератора-интеллектуала (man of letters).
4
Эпоха интеллектуалов-литераторов
1700–1850
Один из ведущих ученых, упомянутых в предыдущей главе, Пьер-Даниэль Юэ, в старости размышлял над тем, что считал упадком учености: «Сейчас я не знаю почти никого, кто мог бы называться настоящим ученым». Более того, он продолжает: «Некоторые люди кичатся своим невежеством, высмеивают эрудицию, а ученость называют педантизмом» [301]. Сходным образом ученый более позднего поколения Джамбаттиста Вико, о котором речь пойдет ниже, в письме от 1726 года жаловался на «истощение» европейской науки во всех ее областях (per tutte le spezie delle scienze gl'ingegni d'Europa sono già esausti). В поддержку этих слов отметим, что во времена Вико в его родном городе Неаполе научные труды на латыни подешевели более чем вдвое [302].
Ученые часто жалуются на упадок знаний, но в данном случае есть и другие подтверждения серьезного изменения интеллектуального климата на рубеже XVIII столетия. Он становился все менее благоприятным для полиматов.
XVIII век
Одним из таких признаков было ухудшение репутации двух исполинов, о которых шла речь в предыдущей главе, Улофа Рудбека и Афанасия Кирхера, в чьих интеллектуальных построениях обнаружились серьезные изъяны, подобные «глиняным ногам» колосса, описанного в Книге пророка Даниила. Лейбниц, например, заявил, что при всем уважении к уму и учености Рудбека он «не может одобрить многие из его идей». Он утверждал, что этимологические заключения Рудбека часто были безосновательными, и однажды пошутил, что французский ученый Поль-Ив Пезрон в своем труде о происхождении кельтов, «возможно, немного рудбекизировал» (nonnihil Rudbeckizet) [303]. Идеи, высказанные Рудбеком в его «Атлантике», критиковались шведскими коллегами еще при жизни ученого, а после смерти его репутация пострадала еще больше. Его теория о шведской Атлантиде сделалась мишенью для сатиры [304].
Что касается Кирхера, то его сторонники, включая двух таких же крупных полиматов, Пейреска и Лейбница, со временем стали все больше подвергать сомнению его научные заслуги. Пейреск, который поначалу восторженно относился к вкладу Кирхера в изучение Древнего Египта, начал подозревать его в недобросовестности и сетовал на то, что некоторые интерпретации его протеже основывались только на интуиции, словно «пришли к нему свыше» [305]. Лейбниц, в 1670 году восхищавшийся книгой Кирхера о Китае, признался в 1680-м, что у него есть большие сомнения относительно «Великого искусства познания» (Ars Magna Sciendi), а в 1716 году, комментируя египетские исследования Кирхера, закончил тем, что «он ничего не понимает» [306]. По словам еще одного полимата, Исаака Фосса, «даже друзья» говорили, что лучше бы Кирхер «не писал своего „Эдипа“» со всеми его претензиями на расшифровку египетских иероглифов [307].
Отчасти падение авторитета Кирхера было результатом больших перемен в мировоззрении образованных людей в начале XVIII века, перехода от представлений о вселенной как живом организме (Кирхер разделял этот подход) к другой точке зрения, согласно которой она была огромным механизмом. Кроме того, произошел переход от идеи объективных «соответствий» (между микрокосмом и макрокосмом, например) к субъективным аналогиям. Как заметила американская исследовательница интеллектуальной истории Марджори Николсон, «по представлениям наших предков то, что мы называем „аналогией“, было истиной, заложенной Богом в природу вещей» [308]. Кирхер разделял эту точку зрения, и новые тенденции оставили его позади.
Педанты и полигисторы
В XVIII столетии термин «полигистор» из комплимента превратился в порицание, по крайней мере, в немецкоязычном мире. Для Канта полигисторы были не более чем «людьми с феноменальной памятью» (Wundermannen des Gedä chtnisses). Их заслуга состояла лишь в том, что они поставляли «сырье» для дальнейшей работы философов [309]. Критика полигисторов попала даже в энциклопедии. В статье Polyhistorie «Универсального словаря» (Universal-Lexikon, 1731–1754) Генриха Зедлера утверждалось, что «заслуга великих полиматов перед миром не так уж велика просто потому, что они были полиматами и, соответственно, занимались пустяками». Знаменитая французская «Энциклопедия» (Encyclopédie, 1751–1772) вынесла сходный вердикт: «Полиматия – это зачастую не больше, чем беспорядочная масса бесполезных знаний», которые «выставлялись напоказ» [310]. Деятельность полигисторов все чаще ассоциировалась с накоплением малозначимой информации ради нее самой, в отличие от того, что стали называть Politisch-galante Wissenschaft, то есть знаниями, приличествующими человеку светскому и благородному [311].
В 1678 году юрист Ульрик Губер выступил с речью против педантизма, а десять лет спустя она была опубликована Кристианом Томасиусом, который сам был яростным критиком того, что он называл Scholastische Pedanterey. В двух пьесах первой половины XVIII века, написанных, между прочим, полиматами, – «Эразме Монтанусе» (Erasmus Montanus, 1723) Людвига Гольберга и «Молодом ученом» (Der Junge Gelehrte, 1748) Готхольда Эфраима Лессинга – выведены яркие образы педантов.
Лессинг, впоследствии ставший знаменитым драматургом, заявлял, что он не ученый (Ich bin nicht gelehrt) и быть профессором – не его дело (das Professoriren meine Sache nicht ist). На самом деле он был очень образованным человеком, но старался держаться так, чтобы это не бросалось в глаза. В детстве он хотел, чтобы на его портрете была «огромная-преогромная стопка книг» (einem großen, großen Haufen Bü cher). Лессинг любил знания, планировал внести свой вклад в модный тогда жанр истории знаний, стал директором знаменитой библиотеки в Вольфенбюттеле (как до него Лейбниц) и написал смелое исследование о евангелистах как «обычных историках» [312].
Растущее недоверие к многознанию также находит свое отражение в распространении слова «шарлатан» и его синонимов. Еще в Древней Греции Платон в своем «Федре» осуждал софистов, которые только «внешне кажутся мудрыми». В XVII столетии общим местом стало сравнение ученых, которые обещают сделать невозможное, с одиозными продавцами поддельных снадобий на площади Сан-Марко и в других публичных местах. Например, Кирхера Декарт называл «шарлатаном», ученый-архиепископ Джеймс Ашшер – «жуликом», а Кристофер Рен – «фокусником» (вероятно, используя это слово в смысле «самозванец») [313].