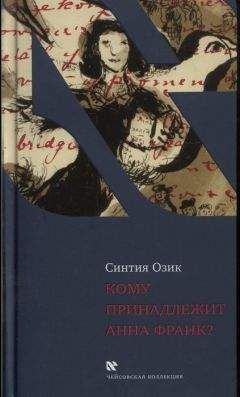Хотя вторая мировая война и Холокост с каждым новым поколением все дальше уходят в область преданий, мало чем отличимых от историй, скажем, о гуннах под водительством Аттилы, изучение Холокоста идет ускоряющимися темпами: мемуары выживших, устные рассказы, волна за волной новых документов и аналитических публикаций. Под рубрикой «изучение восприятия» события и цифры Холокоста исследуются в контексте культурных представлений нынешнего дня. Преобразованию представлений о Холокосте заметно способствовал фильм Стивена Спилберга «Список Шиндлера» о нацистском промышленнике, который спасал преследуемых евреев (охранник, разоблачивший роль швейцарских банков в присвоении средств бывших узников, как говорят, сделал это под влиянием фильма Спилберга). И неудивительно, что новая постановка пьесы Хакетта и Гудрич 1997 года была осуществлена в иной атмосфере, нежели постановка 1955 года. Автор новой редакции текста и режиссер спектакля гораздо более скрупулезно соблюли верность дневнику и приложили все старания, чтобы не обострять заново старых спорных вопросов. Однако эта постановка — со всеми аккуратными, добросовестными добавлениями — не оставляет следа; ее словно бы и не было вовсе. Анна Франк в сознании публики по-прежнему говорит голосом первоначальной пьесы. Да, это неизменно был голос доброй воли, по части намерений тут все было в полном порядке — как и по части кассовых сборов. Но это была добрая воля по-бродвейски, имевшая в своем составе — так, по крайней мере, считал Меир Левин — толику зла. Для него — и, что знаменательно, для Блумгардена и Канина — самым чувствительным пунктом, фокусом проблемы был старинный спор между частным и всеобщим. И это уводило от сути дела: в спектакле о скрывающихся оказалось скрытым зло как таковое. История преследований была облагорожена, разжижена. И если еще нужны доказательства, что пена ложного оптимизма до сих пор не осела, достаточно вспомнить слова юной исполнительницы роли Анны в постановке 1997 года, через сорок лет после бурного конфликта Левина с Каниным и Блумгарденом: «Здесь много юмора, много надежды, и она — счастливая душа».
Мародерство — вот погребальная песнь по убитым. Мародерство рекламы и сцены, искушенности и наивности, трусости и мистицизма, прощения и безразличия, успеха и денег, тщеславия и ярости, принципиальности и страсти, подмены и сродства. Мародерство славы, стыда, упрека. Оптимизма. Узурпации.
В пятницу 4 августа 1944 года, в день ареста, Мип Хис поднялась по лестнице в убежище и увидела, что оно разгромлено. Кто-то предал маленькую группку скрывающихся, получив за каждого по семь с половиной гульденов — то есть примерно по доллару. Шестьдесят гульденов за всех. Мип Хис собрала записки Анны и, не читая, спрятала в ящик своего письменного стола. Там дневник пролежал нетронутым до тех пор, пока не вернулся Отто Франк, переживший Аушвиц. «Если бы я его прочла, — призналась она впоследствии, — мне пришлось бы сжечь этот дневник, потому что оставить его было бы слишком опасно для тех, о ком Анна писала». Мип Хис, удивительная героиня этой истории, женщина глубинно добрая, не сумев спасти людей, спасла для нас незаменимый шедевр. Мне приходит в голову мысль — мысль шокирующая, — что можно вообразить еще более спасительный исход: дневник Анны Франк сожжен, исчез, утрачен — и, следовательно, спасен от мира, сотворившего из него многое, частью истинное, легкомысленно паря при этом над более тяжкой истиной зла, о котором мы знаем, как оно звалось и где обитало.
Предсмертная записка Примо Леви
Пер. В. Пророковой
Примо Леви, итальянский еврей, химик из Турина, был освобожден из Аушвица, когда в январе 1945 туда пришли советские войска; ему тогда было двадцать три, и с того момента, как начался отсчет отсрочки приговора (одна из его книг по-английски называется «Moments of Reprieve»[74] — «Отсрочка приговора»), практически до самой смерти в апреле 1987 года он вспоминал, исследовал, анализировал, фиксировал — в книге за книгой излагал историю кошмара. Он считал себя одержимым летописцем немецкого ада: это понятно по эпиграфу к его последней книге «Канувшие и спасенные»[75] — знакомые строки из «Сказания о старом мореходе» звучат для ценителя поэзии по-новому пронзительно, никогда прежде эти слова не были исполнены такого современного, лишенного метафорики жестокого смысла:
Но с той поры в урочный срок
Мне боль сжимает грудь.
Я должен повторить рассказ,
Чтоб эту боль стряхнуть[76].
Пропущенные через сердце выжившего, эти строки воспринимаются не как лирическая баллада и уж тем более не как образец пронизанного мистикой текста романтического направления, из тех, что изучают на кафедрах английской литературы; это — беспощадный автопортрет. Посреди итальянской весны, через сорок лет после выхода в свет трагической книги «Человек ли это?»[77], опубликованной по-английски под названием «Survival in Auschwitz» («Выжить в Аушвице»), Примо Леви пришел в дом, где родился, поднялся на четвертый этаж, к квартире, в которой некогда жил с женой и престарелой больной матерью, и бросился в лестничный пролет. Самоубийство. Работа над последней лагерной книгой была закончена, сердце выгорело дотла, рассказать было больше нечего.
Рассказать было больше нечего. Разумеется, это предположение никто подтвердить не может, да, наверное, никто и не вправе его высказывать. Самоубийство — один из таинственных актов воли, вне зависимости от того, есть ли объясняющая его предсмертная записка или нет. Остается еще разобраться, не являются ли «Канувшие и спасенные» своего рода предсмертной запиской.
Леви, конечно же, не первый из крупных писателей, кто пережил ад и своей добровольной смертью словно говорит, что на самом деле, когда перестают работать печи, ад не заканчивается — он просто набирает силы для новой атаки: Аушвиц — это первый круг ада, а то, что происходит после Аушвица — круг второй; и если речь идет о «выживании», то восхищаться следует неиссякаемыми силами не «выжившего», а самого ада. Мученик, избежавший смерти, порой стремится завершить начатое не потому, что его тянет к смерти — ни в коем случае! — а потому, что смертью управляет ад, а в природе ада — длиться; его закон — неизбежность, «Выхода нет», — написано на его вратах. «Эту рану не залечить, — пишет Примо Леви в „Канувших и спасенных“, — время ее не врачует, и фурии, в существование которых мы вынуждены верить <…> делают работу мучителей бессрочной, отказывая мученикам в покое».
Например, Тадеуш Боровский[78], автор рассказа «Пожалуйте в газовую камеру»[79], избежал в 1943–1945 годах газовых камер в Аушвице и Дахау; в Варшаве, в 1951 году, когда ему еще не было тридцати, за три дня до рождения дочери он включил у себя дома газ. Самоубийство. Поэт Пауль Целан[80] — самоубийство. Еще один самоубийца — родившийся в Австрии философ Ганс Майер, ставший впоследствии Жаном Амери (это французская анаграмма его имени), — был в Аушвице одновременно с Примо Леви, однако они так и не встретились. Прежде чем его схватили и депортировали, Амери был в бельгийском Сопротивлении, его мучили в гестапо. После войны Амери и Леви обсуждали пережитое в письмах. Леви ценил Амери, по-видимому, понимал его, но, очевидно, его не любил — поскольку, говорил он, Амери был из тех, кто отвечает ударом на удар. «Здоровенный поляк-уголовник, — рассказывает Леви, — бьет [Амери] за какой-то пустяк по морде; и он — это не животная реакция, а осознанный протест против извращенного лагерного мира — как может дает сдачи». «„На мне не осталось живого места, но я был доволен собой“», — цитирует Леви Амери, но, говоря о себе, Леви признает:
«Отвечать ударом на удар» — так я, насколько я себя помню, не поступал никогда; не могу сказать, что сожалею об этом <…> как можно выйти на поле брани, было и есть выше моего понимания. Я восхищаюсь этим, но должен отметить, что эта позиция, которой он придерживался и после Аушвица, сделала [Амери] настолько жестким и непреклонным, что он уже не мог найти никакой радости в жизни, в самом процессе существования. Те, кто отвечает всему миру ударом на удар, обретают достоинство, но платят за него слишком высокую цену, потому что поражения им не избежать.
Примечательно, к какому выводу приходит Леви: «Самоубийство Амери — он совершил его в 1978 году в Зальцбурге [то есть за девять лет до того, как Леви бросился в лестничный пролет], — как и прочие самоубийства, порождает целый сонм объяснений, но, если оглянуться, становится понятно, что эпизод драки с поляком предлагает одну-единственную трактовку».
Это замечание — о том, что гневный отпор каким-то образом ведет к саморазрушению, — в свете самоубийства Леви, довольно загадочно, над ним стоит поразмышлять. Пока что будет нелишним обратить внимание на то, что Леви — точнее, суровый, величественный голос, звучащий со страниц его книг, — был совершенно лишен злобы, негодования, неистовства — всего, что предполагает ответ ударом на удар. Это был голос, исполненный истинного здравомыслия и проницательности. Леви не хотел выступать ни в роли проповедника, ни в роли жалобщика. Он избегал полемики, менее всего хотел, чтобы его воспринимали как миссионера: «К ним — пророкам, сказителям, прорицателям — я отношусь с недоверием. И таковым не являюсь». Взамен он выбрал роль особого свидетеля — особого, поскольку ему была «дарована привилегия» выжить, исполняя роль лабораторного раба — немцам было выгоднее, по крайней мере на тот момент, использовать его как химика, а не уничтожить незамедлительно как еврея; и, с нашей точки зрения, он был таковым, поскольку умел ясно и беспристрастно излагать свои мысли. Без беспристрастности невозможно отринуть потоки эмоций, отказаться от проповеди, от достигаемого через гнев катарсиса — все это так и рвется наружу, когда описываешь беспрецедентную гнусность преступников и их преступлений. Леви не обвинял, не негодовал, не требовал, не поносил, не сетовал, не рыдал. Он только описывал — подробно, аналитически, четко. Он был Дарвином лагерей смерти — не Вергилием немецкого ада, а его научным исследователем.