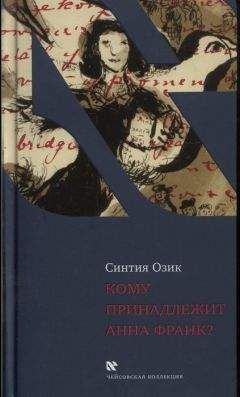Однако «празднование жизни», это псевдоутешение, вполне типично для обманчивой — до самообмана — пылкости чувств (или — в лучшем случае — отсутствия негативных чувств), которую обычно вызывает имя Леви. Из всех летописцев Холокоста Леви кажется тем, кто меньше всех тревожит, меньше всех ранит, меньше всех заставляет читателя сопереживать. Научное или объективное отношение, разумеется, предполагает подачу информации, но никак не бурное проявление чувств. Соответственно, в Леви мы получили психологический оксюморон — проводника по аду с безупречными манерами, благопристойно рассказывающего о смертном ужасе. «Амери называл меня „всепрощающим“, — замечает Леви. — Я не вижу в этом ни оскорбления, ни похвалы, но вижу неточность. Я не склонен прощать, я не простил наших врагов того времени <…> потому что понимаю — никакой человеческий поступок не смоет преступления; я требую справедливости, но лично я не способен, — здесь он снова настойчиво отказывается, — ответить ударом на удар». Но все равно (Леви счел бы это утверждение несостоятельным) Леви воспринимается многими, может быть, и не вполне «всепрощающим», но выжившим, чьи книги, учитывая их тематику, воспринимать легче других; создается впечатление (что видно и из текстов самого Леви), что в Германии его читают с большей охотой, чем прочих. В его книгах, как отметила одна его соотечественница, «отсутствует ненависть».
До сих пор так и казалось. «Канувшие и спасенные» открывают нечто иное. Это как извержение вулкана — настолько это неожиданно. Однако «извержение», во всяком случае с точки зрения Леви, неверное слово: сотрясение — штука внезапная. В «Канувших и спасенных» перемена тона поначалу приглушенная, едва заметная. Постепенно рокот набирает силу и звучит во всю мощь — слышно, как шипит раскаленный фитиль, к последней главе напор становится столь мощным, гнев столь безмерным, что уже нет никакой «отстраненности» — есть конвульсии. То, чему так долго не давали воли, взрывается на этих страницах. «Канувшие и спасенные» написаны человеком, который отвечает на удары со всей яростной мощью, отлично понимая, что перо могущественнее кулака. Конвульсии гнева меняют природу прозы и, если судить об этом по самоубийству Леви, — самого человека. Примечательно, что никто не сказал про последнее свидетельство Леви, что оно пропитано смертоносной злобой, — так, словно сорвать с него покров духовной чистоты было бы слишком жестоко. Может, и жестоко, но Леви своей рукой срывает покров и поджигает фитиль.
Фитиль он поджигает почти сразу — в предисловии. «Никто никогда не сможет с точностью сказать, сколько человек в нацистском аппарате не могли не знать о том, какие зверства происходят, сколько знали, но их положение позволяло им делать вид, что они не знают, и, наконец, сколько знали, но из предусмотрительности закрывали глаза и уши (а прежде всего рты)». Это — предвестие, обвинение последует: Леви осуждает немецкий народ, чем, видимо, и объясняется то, что он не избегает употреблять прилагательное «немецкий», хотя сейчас принято говорить «нацистский», поскольку это более узкое понятие. В предисловии есть и одна самая страшная фраза из всех высказанных о том, что называется «возмещением ущерба», «изменением отношений», «новым поколением» и так далее: «Печи крематориев были спроектированы, изготовлены, собраны и испытаны немецкой компанией „Топф оф Висбаден“ (в 1975 году она все еще действовала, строила крематории для нужд населения и не посчитала нужным сменить название)». И не посчитала нужным сменить название — то же самое можно сказать о компании «Крупп», печально известной и тем, что использовала рабский труд заключенных, и о ее самом знаменитом детище, о «народном автомобиле» Гитлера, вездесущем «фольксвагене», за руль которого уселась, не мудрствуя, половина планеты. (Кстати, немудреная ирония есть и в том, что Леви или его замечательный переводчик должны были применить слова «для нужд населения» — имея в виду, вероятно, нечто противоположное официальной политике государства — то есть обычные похороны путем кремации. Но разве не «население» уничтожали в лагерях?)
Когда Леви начинает говорить о стыде, он тем не менее подразумевает не отсутствие стыда у немцев, хотя и обвиняет «большинство немцев» в «соучастии и попустительстве» перед тем и после того, как гитлеризм набрал силу, речь скорее о том, что утратили стыд узники лагерей, лишенные остатков цивилизованности, доведенные до скотского состояния. В лагерном «anus mundi»[85], где «от рассвета до заката царили голод, усталость, холод и страх», в «клоаке немецкого мироздания» не было места взаимодействию: каждый должен был выживать, полагаясь только на себя, заботиться лишь о себе самом. Стыд вернулся, когда вернули свободу, тогда и оглянулись на прошлое. В «серой зоне» лагерного гнета жертвы сотрудничали с мучителями — те заражали их своим садизмом. Приезд в Аушвиц означал «тычки и удары с самого начала, часто по лицу; шквал приказов — отдаваемых криком, с неподдельной или напускной злобой; полная нагота — всю одежду срывают; сбривают все волосы на теле; одевают в лохмотья», и некоторые из этих процедур проводили такие же заключенные, к этому приставленные. Снова и снова Леви подчеркивает, что все человеческие черты стираются: стыдливость узников поругана, они вынуждены испражняться на людях, их мучают с дьявольской жестокостью, они дезориентированы, подавлены. Он описывает, как непререкаема была власть «мелких сатрапов» — обычных преступников, ставших капо[86], мерзких Bettnahzieher[87], единственной задачей которых было проверять, ровно ли лежат на нарах соломенные тюфяки, — они имели право «прилюдно и жестоко» наказывать провинившихся; надсмотрщики, надзиравшие за заключенными, выполнявшими ненужную работу; «спецкоманды», обслуживавшие крематории, — туда шли, чтобы прожить на несколько недель дольше, потом на смену им приходили новые, а предыдущих отправляли в печь. Эти спецкоманды, объясняет Леви, «в основном состояли из евреев. В этом в некотором смысле нет ничего удивительного, поскольку основной задачей лагеря было уничтожение евреев, а начиная с 1943 года 90–95 процентов заключенных Аушвица были евреями». (Здесь я отвлекусь, чтобы напомнить читателю о выборе Уильяма Стайрона в «Выборе Софи», где нам представлена в качестве символа политики геноцида в лагерях жертва, еврейкой не являющаяся[88]). «С другой стороны, — продолжает Леви, — ошеломляет такой сплав вероломства и ненависти: евреев в печи должны отправлять евреи; нужно показать, что евреи — недораса, недочеловеки, они терпят любое унижение — даже уничтожают таких же, как они». Леви признает: по той простой причине, что он остался жив, он никогда не мог «постичь тайну [лагеря] во всей ее глубине». Другие, «канувшие», считает он, те, кто прошел муки до конца, до уничтожения, — только они познали всю полноту этого вероломства и ненависти.
Размышления Леви оказываются достаточно глубоки. В «Канувших и спасенных» не столько описывается то, чему он был свидетелем, сколько анализируются самые подлые уголки сознания преступников — научный ум неминуемо стремится добраться до сути и последствий нравственной деградации и жестокости. Леви не первым отметил, что «там, где насилию подвергается человек, насилию подвергается и язык», хотя он, возможно, был одним из первых, кто сообщил нам о решающей — от жизни к смерти — роли языка в лагере. Попросту не понимать немецкого означало умереть тут же: полицейскую дубинку называли der Dolmetscher[89], «толмач», — она заставляла всех себя понимать. Леви немного изучал немецкий в университете, когда учился на химика. В Аушвице он учил его дальше — гротескно искаженные варваризмы, которыми он нарочно пользовался годы спустя, «по той же причине, по какой я не свел татуировку с левой руки». Что же до самой татуировки — «автохтонное изобретение Аушвица», «оскорбление в чистом виде, без какой-либо причины», «возвращение к варварству» — Леви, не будучи религиозным евреем, не упускает случая отметить, что в книге «Левит», глава 19, стих 28[90], нанесение татуировок запрещено «именно для того, чтобы отличать евреев от варваров». По прибытии в Аушвиц, отмечает он, татуировки делали даже новорожденным.
Все эти и далеко не только эти факты Леви собрал под леденящим кровь заголовком «Бессмысленное насилие», он определяет его как «умышленное мучительство, как самоцель». Зачем было останавливать вагон с евреями на австрийской станции, где под гогот охранников «пассажиры-немцы, не скрывая отвращения», глядели, как «мужчины и женщины усаживались на корточки где попало — на платформах, на путях»? Зачем было забирать стариков на пороге смерти из домов престарелых и отправлять в Аушвиц, в газовые камеры? Или заставлять взрослых людей по-собачьи лакать суп из мисок, потому что ложек (которых в Аушвице были десятки тысяч) им не давали? Или посыпать пеплом из крематориев дорожки к поселку эсэсовцев, управлявших лагерем? Или продавать человеческие волосы немецким текстильным фабрикам — на набивку матрацев? Или запирать людей в кессонных камерах, «чтобы определить, на какой высоте над уровнем моря кровь начинает закипать: эти данные можно получить в любой лаборатории с минимальными затратами и без жертв или же просто взять из таблиц»?