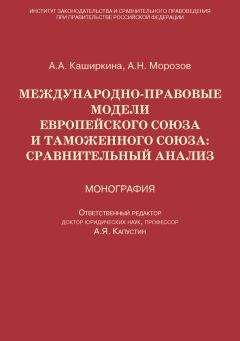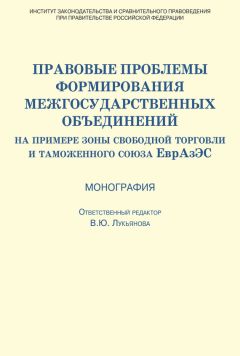— Этой теме должен был быть посвящен ваш телепроект «Империя добра». Почему он не состоялся в 90-е?
— Он вряд ли воскреснет. Сегодня у меня слишком мало сил, а главное — времени. В 90-е тоже времени не хватило: я много работал, выступал на телеканале «Культура» как ведущий и сам что-то придумывал. Если бы тогда получилось, я бы показал, как интересно живут люди в разных уголках бывшей империи, не подозревая, что сохранили черты одного народа. Вообще в 90-е у меня было много неосуществленных идей, так они и пропали. Например, в 98-м появилась такая идефикс — поставить памятник Мандельштаму во Владивостоке к 60-летию его гибели. Это был бы памятник зэку. Рядом с тем местом, где ему полагалось быть, проходила дорога и стояла маленькая стела, воздвигнутая еще до революции: «До Петербурга 9900 километров». Дорогу провели в 1913-м, когда в стране начался экономический подъем. Вот интересно. 1612-й и 1812-й в этом году мы отметим. А кто-нибудь будет отмечать юбилей в 2013-м? 1913 год — это ведь и подъем промышленности, по которому советская власть мерила свои достижения, и Серебряный век.
— Но потом наступил 1914-й...
— ...который сломал возможности роста страны. Началась война — и все стало рушиться. Вот этот слом и открыл путь октябрьскому перевороту.
— Можно было не вступать в Первую мировую?
— Не знаю. Я не историк. Но я со школы запомнил фразу: «Германия опоздала к разделу мира». Мир был поделен без нее. И фашизм возник именно в тех странах, которые к разделу не успели, потому что поздно объединились. Это и Германия, и Италия.
— А коммунизм?
— Что касается России, это отдельный и длинный разговор. Тут много странного, особенно если взглянуть на игру дат и чисел. Даты — удивительная вещь. Вы знаете, у меня каждый ребенок родился при новом вожде. И каждый раз от новой женщины. У меня есть хрущевский ребенок, брежневский и горбачевский. Словно каждый раз надежда на новую жизнь, на омоложение империи...
— Почему сегодня так любят бросаться словом «империя»?
— Конечно, это всегда упрощение. Надо и мне пореже его употреблять. Но как? Ведь я в свое время первым поднял тему империи в литературе. Она находилась под спудом. Помню 76-й. Это был потолок возможностей, достигнутый мною в отношениях с советской печатью. Я выпустил сборник «Семь путешествий». А должно было быть «Семь путешествий по империи». Но слово еще было подцензурным. К 1996-му в голове у меня сложился план четырехтомника под названием «Империя в четырех измерениях». Он составит первые тома моего собрания сочинений, если таковое выйдет. Они соответствуют хронологии текстов: 60-е, 70-е, 80-е, 90-е. Пятый том — это уже разговор о русской литературе.
— Скажите, автор сильно изменился «по ходу пьесы»?
— И да и нет. Если автор пишет по совести, у него все равно получается единый, непрерывный текст. Исходя из этого я написал когда-то: «Хорошо бы начать книгу, которую можно писать всю жизнь. Ты кончишься, и она кончится». Единый текст существует у Пушкина, хотя он очень компактный писатель и его хорошо расфасовали по жанрам. Но я ратую за хронологического Пушкина. А у нас Александра Сергеевича заковывали каждый раз в новую идеологию. Он и карбонарий, он и консерватор. А Пушкин — он сам по себе.
— Вроде сейчас ему уже ничего не приписывают.
— Ну, сейчас кругом одно болото. Полуразложившийся, еще не подсохший труп страны. Чего же вы хотите? Когда-нибудь Пушкина снова станут читать, но еще надо подождать. Для людей моего возраста это очевидно.
— Вы родились в «том самом» 37-м. Что это для вас значит?
— В 97-м, когда мне стукнуло 60, я об этом много думал. Знаете, на 37-й приходится не менее двенадцати крупных имен в нашей культуре, заканчивая, между прочим, Высоцким. Который хоть и 1938 года рождения, но принадлежит к году Быка. Знаете, у меня была мысль объединить имена и события тридцать седьмого в антологию.
— Как это?
— В одном интервью я сказал однажды, что ищу спонсора на книгу «Антология 37-го года». Решил начать ее с постановления о запрете абортов. Потом со столетия гибели Пушкина. Потом со шпиономании: думал подобрать обвинительные материалы. И, конечно, дать имена тогда еще здравствовавших писателей, моих современников. Никто не откликнулся.
— А что там было с абортами?
— Постановление о запрете абортов вышло 27 июня 1936 года, так что строчка Высоцкого «Первый раз получил я свободу по указу от тридцать восьмого» неточна. За аборт полагался срок. А может, это вмешались провиденциальные силы: впереди была война, и нужно было накопить такой сгусток человеческий.
— Часть этого сгустка потом осознала себя как шестидесятники. Вы — нет.
— Чтобы откреститься от них, я однажды сказал: мы — питерские шестидесятники, потому что нам около шестидесяти лет, наши первые дети родились в 1960-е и мы живем на 60-й параллели. Но я никогда не был шестидесятником. Я питерский. У нас шестидесятников не было. Но была оттепель, которая позволила нам писать — правда, без особых шансов публиковаться. После ждановского постановления 1946-го положение Москвы и Питера стало невозможно сравнивать. Шестидесятники родились в Москве. Хрущев на них натопал, накричал — и создал им мировую славу. А в Питере была зависть: мы лучше, а они славу хавают. Как сказал мне однажды Соломон Волков, «все славы рождены властью». Либо ты в конфликте с ней, либо ты ее поддерживаешь.
— Сегодня говорят, что их фронда была хорошо просчитана, возникла с коммерческим прицелом на будущую перестройку.
— А вот это уже подлость более позднего поколения, решившего втоптать в грязь шестидесятников. Просто они были молоды и жили, желая понравиться. Что еще человеку нужно? Понравиться девушке, другу, читателю... Хочется воплотиться. Это нормальное желание. Из них получился мейнстрим, если говорить современной засоренной терминологией. Все были на взводе. Появилась надежда, что все будет иначе. Была она и при Горбачеве.
— Но как раз при Горбачеве восьмидесятники очень резко выступили против поколения оттепели.
— Наступить на горло предшественнику — это их закон. Мы этим не занимались.
— Хотя и отрицали, например, соцреализм?
— Да. Потому что из-за него была неверно прочитана вся русская классика. Только после знаменитого доклада Хрущева издали Достоевского. До этого он считался мракобесом и реакционером. У Толстого издавали в основном «Войну и мир». Толстовский пафос войны и мира в искаженном виде питал нашу якобы эпическую социалистическую литературу, начиная с «Тихого Дона». Все писали эпопеи. Фадеев неплохо начинал с «Разгрома», но это тоже подражание Льву Николаевичу. Из Гоголя стремились выхватить романтизм, из Толстого вот этот историографический пафос. Но в XIX веке писали не по социально-политическим мотивам, а потому что душа лежала к творчеству. Литература была не производством, а индивидуальным занятием.
— Но как только наступила вторая оттепель, так и сыграли «Поминки по советской литературе». Это что, освобождение?
— Когда одно самоутверждается за счет другого — это просто низость. Безобразием было ругать Окуджаву, верно? В конце концов, критика — тоже вид литературы. Но кто судит и этим ограничивается, тот сам ничего не умеет. Это самый дешевый и легкий путь к славе. Я могу не любить кого-то, но тогда я просто о нем писать не буду, вот и все. Ничего отрицательного в жизни нет, а положительное есть. Надо уметь сказать правду, когда необходимо, но не гнобить.
— Не раз приходилось слышать: есть, мол, постмодернизм циничный в лице Виктора Ерофеева, Сорокина и других. А есть — с человеческим лицом, как у Битова в «Пушкинском доме». Это правда?
— Меня считают основоположником постмодернистского направления в России. А если совсем честно, то я раньше всех в Европе написал такой роман. Но это уже дело литературоведов — сравнивать. Пусть они там свою колбаску режут. Есть в литературе идеи, которые никакие новаторы до сих пор не воплотили, включая постмодернистов.
— Какие же?
— Например, никто не воспел старость.
— Как же? Есть выражения «светлая старость», «благоухание седин».
— Да, они живут в языке. Но в мировой литературе почти ничего об этом не написано, если хотите знать. Я обожаю Александра Дюма, как ребенок, и последнюю часть дартаньяновской трилогии люблю за то, что там старики выставлены против молодежи. Все четверо великолепны, а молодежь абсолютно гнилая. Еще один похожий романчик я читал у Сименона. У Толстого есть прекрасный старик Болконский. Но это исключения. А в общем, я не помню литературы, доброй к старикам, сочувствующей им. Хотя и у Платонова, и у Чехова вы стариков найдете. Может, поэтому я в «Пушкинском доме» и описал собственную старость. Придумал себя в двух вариантах: спившегося великого человека и такого аристократического пьяницы... Знаете, больше я вам не напишу романа.