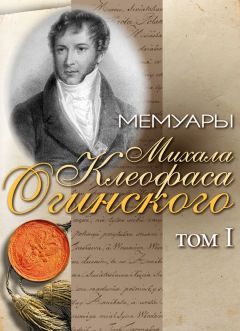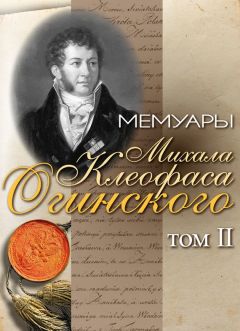Мы клянемся самой священной клятвой защищать всеми средствами независимость нашей страны, наши политические и гражданские права, общественную и личную свободу, а также нашу конституцию, которая является гарантом всего этого. Мы не сомневаемся, что эти чувства разделяются жителями всех провинций Короны. Каждый из нас, с полной уверенностью в правоте нашего дела, собственноручно поставил подпись под настоящей декларацией».
Окончив чтение, я добавил, что этот акт, копию которого мне переслали, содержит сотни подписей. Он был затем отпечатан в Гродно. Во время чтения король казался то взволнованным, то обеспокоенным и удивленным. Каково же было, однако, мое удивление, когда он, немного поразмыслив, сказал мне сдавленным голосом: «Это хорошо, очень хорошо, но не боятся ли все они скомпрометировать себя и подвергнуться преследованиям, если положение дел обернется против нас?..» Я ничего не ответил на это, но с того момента я уже мог с уверенностью предсказывать, каким будет окончание событий.
Упорное желание короля оставаться в Варшаве и не отправляться в лагерь; приказы об отступлении, отданные им армии; выбор королем своего окружения, патриотическая настроенность которого вызывала сомнения; присутствие в Варшаве посланников России и Пруссии, причем они оба, действуя по одним и тем же принципам, старались воспользоваться слабохарактерностью короля – все это укрепляло меня во мнении, что мои опасения оправданны. Не желая быть свидетелем печальной развязки, которая должна была наступить очень скоро, я попросил у короля разрешения отправиться на воды Altewasser в Силезии. Там я оказался в компании четырех десятков моих соотечественников, которые покинули Варшаву по тем же причинам, что и я.
Находясь вдали от арены событий, мы, однако, были далеки от неведения относительно тех ужасов, жертвой которых стала Польша.
Напрасно король Польши написал 22 июня 1792 года императрице Екатерине с предложением назначить ему в наследники и затем посадить на польский трон великого князя Константина. В ответе от 2 июля содержались только упреки ему в нарушении «pacta conventa» и настойчивое внушение срочно присоединиться к Тарговицкой конфедерации.
Оробевший по прочтении этого письма, подвергшийся угрозам со стороны русского посланника, который на словах передал Станиславу Августу окончательное решение императрицы, король 22 июля призвал к себе министров, двух маршалков сейма и своих двух братьев. На этом совете, собравшемся в его кабинете, он объявил о своем решении подписать акт Тарговицкой конфедерации, чтобы предотвратить, по его словам, второй раздел Польши.
Почти все лица, призванные королем для этой важнейшей консультации, предвидели, о чем пойдет речь, и догадывались о намерениях короля. Однако те, кто не разделял его мнения, потребовали от каждого высказаться по поводу столь важного и необычного предложения. Два маршалка сейма, Малаховский и Сапега, затем Потоцкий, великий маршалок литовский, Солтан, маршалок литовский, Островский, казначей Короны, и Коллонтай, вице-канцлер Короны, произнесли яркие речи, исполненные патриотизма и энергии, и отвергли решение, принятое королем. Это решение, однако, было поддержано его двумя братьями, князем-примасом и главным капелланом Короны, затем главным канцлером Короны Малаховским, великим маршалком Короны Мнишеком, вице-канцлером литовским Хрептовичем, польным гетманом литовским Тышкевичем, подскарбием литовским Дзеконским.
23 июля 1792 года король подписал акт Тарговицкой конфедерации. Это событие вызвало общий протест у публики. Армия громко роптала. Оба маршалка сейма, заявив о своем протесте, покинули Варшаву. Люди собирались группами на улицах города и предавались глубокой грусти.
Эти известия дошли до нас в Altewasser вместе со многими нашими соотечественниками, прибывавшими сюда: они убегали из столицы, чтобы не видеть этой печальной картины.
Присоединение короля к акту конфедерации должно было неизбежно побудить последовать его примеру тех, кто имел значительные имения, многочисленную семью, неотложные дела, требовавшие завершения, и потому не мог покинуть родину.
Я также получал письма, побуждавшие меня ускорить мое возвращение в Варшаву. Король, примас и некоторые из министров, высказавшихся за новую конфедерацию, ясно давали мне понять, какой опасности я подвергаю себя тем, что продлеваю свое пребывание вне родины. Мои друзья, которым была известна моя позиция, убеждали меня, что я не должен более задерживаться ни на минуту, если не хочу потерять свое состояние и подвергнуть опасности тех, с кем меня связывают деловые отношения. Наконец я получил известие, что все мои земли в Литве секвестированы, что все мои служащие изгнаны и заменены людьми, которым покровительствует семейство Коссаковских, и что эти новые управляющие разрушают и уничтожают все, что мне принадлежало.
Если бы я был одинок и мое состояние не было ни с кем связано, я бы продолжал откладывать свое возвращение на родину, а в случае если бы обстоятельства оставались теми же, я, без сомнения, покинул бы родину навсегда. Но священные обязательства взяли верх над моим сердечным расположением, и я, исполненный боли, отправился в Варшаву. Невозможно было предвидеть тогда, что все несчастья и катастрофы в моей жизни еще только начинались и что впоследствии я окончательно паду их жертвой.
Каким печальным зрелищем предстала перед моими глазами Польша, когда я вернулся туда!.. В каком душераздирающем виде предстала передо мной столица, которую я видел столь блистательной всего лишь несколько месяцев назад!.. Какая гнетущая тишина царила там!.. Какой мрачный вид был у польских военных, которые изредка попадались навстречу! И как высокомерно и вызывающе вели себя те, кто призвал в страну неприятельские армии!
Я был вынужден прежде всего представиться Коссаковскому, получившему титул великого гетмана литовского волеизъявлением нации, который и был главным зачинщиком всех репрессий. Он был облачен в форму российской армии, называл себя ее генерал-лейтенантом и занимался тем, что мстил всем, кто не разделял его мнения и не был сторонником его семейства. Он упрекнул меня в том, что я принял на себя миссию в Голландии, порученную мне сеймом, члены которого были противниками России. Он заявил, что это навлекло на меня немилость государыни, чью форму он носил, и что именно это стало причиной секвестирования моих земель. Затем, напустив на себя вид хмурый и суровый, он добавил, что все его семейство также имело ко мне личные счеты, за которые он тоже мог бы мстить. При этом, однако, он заметил, что его угрожающая физиономия не произвела на меня впечатления и что я продолжал спокойно ему отвечать. Видя мое достойное и уверенное поведение, он сбавил тон и сказал, что я должен немедленно отправиться в Брест, где находился весь генералитет конфедерации и где, после принесения клятвы, я смогу узнать подлинную причину секвестирования моих земель.
Унизительно было общаться с этим человеком, всеми презираемым. Обидно было, что я не могу проявить свойственную мне живость характера и высказать ему заслуженные упреки. От досады я едва не заболел и на несколько дней отложил свой отъезд в Брест.
По дороге туда мне повсюду встречались многочисленные отряды русской армии. Сам город производил впечатление укрепленного лагеря. Главные улицы были загромождены пушками. Все прочие улицы были заполнены военными, людьми из свиты генералитета и евреями. Можно было подумать, что горожане попрятались за оградами своих домов, потому что стыдились своего города, ставшего приютом для захватчиков.
Епископ Ливонии, брат великого гетмана, к которому я отправился сразу же по приезде, изложил три основных претензии ко мне их семейства: 1. не захотел взять секретарем посольства в Голландию г-на Юзефа К…, из-за его фамилии; 2. допустил, чтобы во время большого публичного собрания у меня некто позволил себе выкрик, чтобы епископ К… был отправлен на фонарь; 3. написал письмо президенту трибунала Литвы не в пользу его свояченицы, из-за чего она проиграла процесс.
Не имеет смысла приводить здесь мой ответ: он был кратким, точным, не допускающим возражений. Я понимал, что все это лишь поводы для сведения счетов и что эти мои предполагаемые вины могут быть искуплены теми жертвами, которых от меня потребуют. И действительно, меня заставили подписать отказ от староства с доходом в две тысячи дукатов в пользу одного из друзей их семьи и два векселя на двести тысяч флоринов каждый к оплате его брату-гетману. Взамен епископ обещал мне употребить свои связи, чтобы снять секвестр с моих земель, и посоветовал мне отправиться в Петербург, чтобы там окончательно очистить себя от подозрений.
Затем я отправился к Феликсу Потоцкому и князю Сапеге, великому канцлеру литовскому: первый был маршалком конфедерации в Короне, а второй – в Литве. Оба заверили меня, что в генералитете никогда не вставал вопрос о секвестировании моих земель. Первый даже, казалось, был возмущен действиями, которые были предприняты против меня и подобных которым не было провинциях Короны. Второй резко осудил поведение семейства К….х и добавил, что никогда не подписал бы акт, лишавший собственности его соотечественника, связанного с ним кровными и дружескими узами.