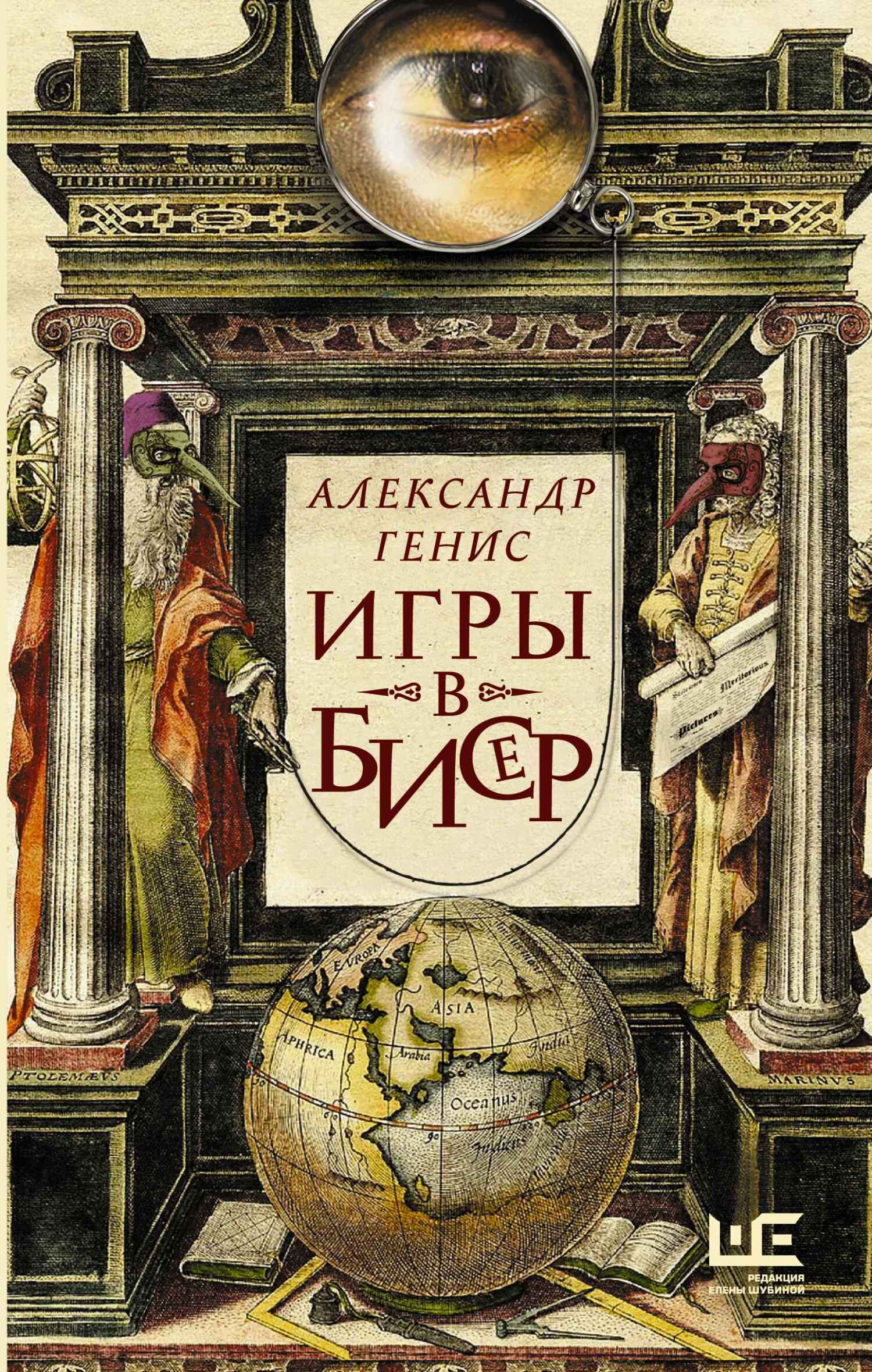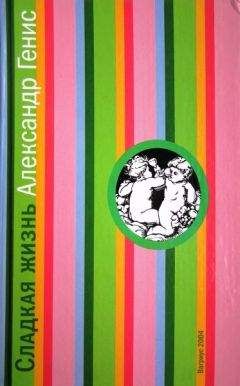общего. У домовых мягкие, поросшие шерстью ладони, которыми они гладят хозяев во сне, и тихий голос – будто листья шелестят. Домовые любят плясать и играть на гребенке. Их легко обрадовать соленой горбушкой или щепотью нюхательного табака. Если их бросают при переезде в новый дом, домовые горько плачут.
Известен случай в Орловской губернии, где “после пожара целой деревни домовые так затосковали, что <…> крестьяне вынуждены были сколотить на скорую руку временные шалашики”.
В целом русские черти незадачливы и неудачливы. В таких бесов и верить легче, и жить с ними проще, если, конечно, знать физкультуру суеверий. Я, скажем, не смею выйти из дома, не присев на дорогу. Обязательно гляжусь в зеркало, если пришлось вернуться с полпути. И не стану чокаться, выпивая на поминках.
Для агностика вера – неподъемная ноша, зато суеверие – в самый раз. Оно разменивает золотой запас вечного на медную монету повседневной жизни, делая ее не такой страшной, какой она кажется или какая она есть.
4. Спутник
Перебравшись из фольклора в литературу, русский черт сохранил свои лучшие, они же – худшие, черты, во всяком случае у Достоевского.
Явившийся Карамазову черт – мелкий бес. Он вволю потешается над амбициозным Иваном, ожидавшим, как все мы, что дьявол к нему явится “«гремя и блистая», с опаленными крыльями”. Вместо этого черт переоделся в “известного рода русского джентль- мена”. В клетчатых штанах (вечный признак греха вплоть до Коровина и карикатур на янки из “Крокодила”), в несвежем белье и неуместной зимой белой шляпе, черт выглядит злым шаржем на прогрессивного интеллигента вроде Степана Верховенского. Оставшийся без средств приживальщик, он поддакивает очередному хозяину, расплачиваясь за приют застольной беседой, которую без всякой нужды шпигует французскими словами, которые тогда заменяли нынешние англицизмы.
Знаками пародийного – журнального – просвещения служат обильные литературные реминисценции. Черт вспоминает то Толстого, то Белинского, сравнивает себя с “поседелым Хлестаковым”, намекает на гоголевский же “Нос” в своем скверном анекдоте и показывает себя любителем не упомянутого прямо Жюля Верна. (С 1867 по 1877 год Марко Вовчок перевела на русский шестнадцать его книг.) Вся потусторонняя сфера описана в типичном для Жюля Верна научно-популярном стиле, соединяющем цифры и детали с юмористическим, фельетонным стилем: “…чтобы попасть к вам на землю, предстояло еще перелететь пространство… конечно, это один только миг, но ведь и луч света от солнца идет целых восемь минут…”
Более того, знаменитый топор в пространстве (оммаж Раскольникову) явился в роман, чтобы “летать вокруг земли, сам не зная зачем, в виде спутника”. Это позволило одному американскому профессору назвать Достоевского предшественником советской космической программы.
5. Сон
Опустив черта как можно ниже – на землю, Достоевский ему подыгрывает. Он приближает дьявольскую мечту: “с купцами и попами париться”. И не в той “закоптелой баньке с пауками”, которую Свидригайлов назначил вечностью, а в обыкновенной парной, чтобы стать как все, “воплотиться, но чтоб уж окончательно, безвозвратно, в какую-нибудь семипудовую (112 кг. – А. Г.) купчиху и всему поверить, во что она верит”.
Опошление бездны – путь из нее, но цена освобождения – отказ от метафизических вопросов. Принять жизнь без сомнений и означает стать “купчихой”. Этот выбор черт и подсовывает Ивану, настаивая на своей грубой материальности, которой можно дать пинка: “…тогда моя цель достигнута: коли пинки, значит, веришь в мой реализм”.
Разыгрывая партию в поддавки, черт, однако, знает, что Иван не согласится на простой выход. Ему дьявол нужнее, чем он дьяволу. Соблазн черта в том, что он есть живое, неопровержимое свидетельство существования тех сфер, куда Ивана не пускает скепсис прогресса. Чтобы шагнуть по ту сторону разума, ему нужно убедиться в независимом присутствии дьявола, поверить в то, что черт знает нечто иное, лежащее за пределами его, Ивана, сознания: “А ведь это ты взял не у меня, – остановился вдруг Иван как бы пораженный, – это мне никогда в голову не приходило, это странно…”
На самом деле, как мы знали всегда, пока Фрейд не сделал из этого знания науку, вместе с нами живет второе Я, которое умеет подсказывать, но только во сне. Может, оно и не умнее нас, но опускается глубже, отчего и называется подсознанием. Антрополог Леви- Брюль называл сновидения “библией дикаря”. Другие искали в них источник религии, писатели – повествовательную машину. Лучше всего она служила Станиславу Лему. Он материализовал на манер Достоевского сны и построил из полученного роман “Солярис”, задавший провокационный вопрос: если мы не отвечаем за наше подсознание, то кто отвечает?
Поверив в черта, Иван сдается и признает его за Другого, достойного, наконец, “вопрос разрешить”, мучивший всех героев и читателей Достоевского: “Есть ли Бог или нет? – опять со свирепою настойчивостью крикнул Иван”.
Но черт, как и его автор, не дает ответа, оставляя вместо него “семечко веры”, чтобы вырастить из атеиста хотя бы агностика.
Эхо этого диалога слышится в той сцене из “Конца игры” Беккета, где герои пьесы молятся Богу:
К л о в. К черту, ничего не выходит! А у тебя?
Х а м м. Ни черта! (Обращаясь к Наггу.) А у тебя?
Н а г г. Подожди. (Пауза. Открывает глаза.) Без толку!
Х а м м. Вот сволочь! Он не существует!
К л о в. Еще нет.
6. Диалектика
“Конечно же, – писал Бродский, – Достоевский был неутомимым защитником Добра <…>. Но если вдуматься, не было и у Зла адвоката более изощренного”.
Не справившись с центральным вопросом бытия (“…если доказан черт, то еще неизвестно, доказан ли Бог?”), дьявол занялся своим прямым делом: апологией Зла. Из головоломной теологической конструкции вырисовывается, что черт, будучи хоть и падшим, но ангелом, мечтает, как все остальные, даже злодеи, быть с Богом на стороне Добра. Он даже оспу себе привил и “на братьев славян 10 рублей пожертвовал”.
Вернуться на небо черту мешает “самое несчастное свойство моей природы” – здравый смысл. Тот самый, что не дает всем героям Достоевского, не исключая святых, обрести блаженство в безмятежной вере и счастье в единстве с безусловным Добром. Дьявол – это, по его же словам, “необходимый минус”, без которого мироздание не только что неполно, но и вовсе невозможно. Черт приводит Вселенную в движение, вносит развитие в безжизненное статическое равновесие и служит асимметричным противовесом, без которого Достоевскому не о чем было бы писать, а нам – не с чем жить. “Без страдания <…> все обратилось бы в один бесконечный молебен: оно свято, но скучновато”.
В припадке фальшивого самоуничижения черт говорит Ивану, что напрасно тот ждет от него