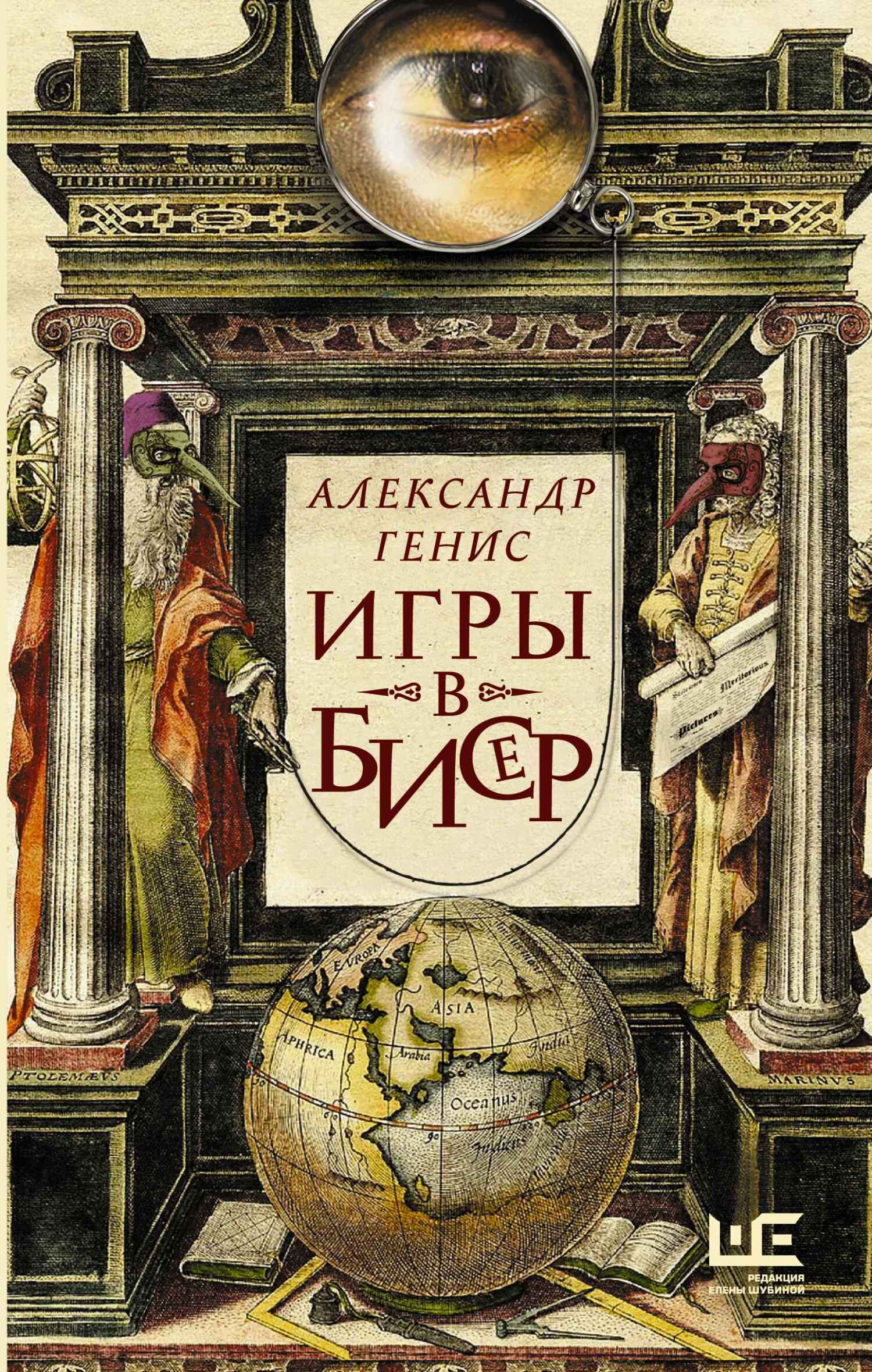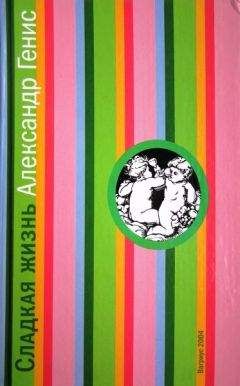другого.
У Булгакова традиционный мелкий бес – это “клетчатый” Коровьев, к которому, балагуря и веселясь, присоединяется прочая нечисть романа. Они, конечно, вредят, но по мелочам, даже тогда, когда отрывают несчастному конферансье голову. Все их проделки проходят без следа – это как стрелять в подушку. Наказанные меняются местами и если исправляются, то ненамного: скажем, перестают врать, но только по телефону.
Воланд во всей этой потешной, почти карикатурной “трагедии мести” не принимает участия. Он – над схваткой, настоящий князь Зла без страха и упрека, который наблюдает за человеческим родом в ключевые моменты его развития. Первый раз – на заре христианской истории, когда распяли Иешуа. Второй – на завтраке с Кантом, когда в блестящий век Просвещения, казалось бы, окончательно победил разум. И третий – в Москве большевиков, обещавших осуществить примерно то же, что первый, с помощью того, что придумал второй.
С высоты своего надмирного, как выяснилось в самом конце, положения Воланд следит за человечеством, не вмешиваясь в его судьбу, видимо, считая нас неисправимыми и не нуждающимися в дьявольских соблазнах. Если он и заведует Злом, то оно носит схоластический характер и оправдывает свое существование неизбывным паритетом тьмы и света.
О последнем мы, по сути, ничего не знаем. Разве что – от противного: если есть начальник Зла, то и у Добра должен быть источник. Вдвоем они составляют гармоническое, пусть и манихейское целое. И это внушает хоть какую-то надежду. Ведь Бога неизвестно, где искать, а дьявола можно встретить на Патриарших прудах.
1. Свидетель
Мне приходилось печататься в таких странных изданиях, как газета “Советский цирк”. Но лишь однажды я попал в орган, который обращался сразу ко всему человечеству. Он назывался “Иностранец” и предназначался, как, помнится, гласил его девиз, “Для тех, кто уезжает, и тех, кто остается”.
– Все мы, – расшифровал я редакционное обращение, – для кого-то иностранцы, иногда и у себя дома.
Такой универсализм намекал на что-то космическое и интимное сразу. И гнездилось это диковинное обобщение в фигуре иностранца, которым я прожил всю жизнь с тех пор, как родители увезли меня из Рязани в Ригу, когда мне было пять.
Благодаря этому адресу я привык, выучив названия улиц, к двум алфавитам. Лишь многим позже мне объяснили, что в СССР, где все – от чукчей до татар – пользовались патриотической кириллицей, латиница была вторичным заграничным признаком. Первичным считались сами балтийцы, которые меньше многих походили на советских людей. Даже тогда, когда старались, у них получалось плохо, как, собственно, у всех иностранцев. Этим воспользовался Довлатов, описывая в “Компромиссе” самую западную версию советской власти.
“Эстонцев я отличаю сразу же и безошибочно. Ничего крикливого, размашистого в облике. Неизменный галстук и складка на брюках. Бедноватая линия подбородка и спокойное выражение глаз. Да и какой русский будет тебе делать гимнастику в одиночестве…”
Привычное с детства двуязычие меня сопровож- дало повсюду. Например, в гостях у киевской бабушки, где я учился грамоте. Первым самостоятельно прочитанным словом было название кинотеатра “Перемога”. Видимо, в этом обстоятельстве можно найти предзнаменование, предостережение или бесстрастный намек на то, что мне было суждено провести жизнь иностранцем.
В этом статусе скрывается столько противоречий, что он, как египетский иероглиф по Фрейду, включает в себя собственную противоположность. Плюсы и минусы тут не отрицают друг друга, а складываются в одного кентавра.
Двойственная природа иностранца делает его незаменимым в отечественной культуре, которая всегда нуждалась в постороннем взгляде. От иностранца ждут непонимания, позволяющего за его счет остранить себя. Попадая в чуждую ему среду, он, как в химической реакции, помогает кристаллизировать отечественные причуды – и заразиться ими. Как это произошло в популярной комедии “Особенности национальной охоты”.
Не зря так часто иностранцы, и не только цыгане, встречались в сугубо национальном кинематографе Никиты Михалкова еще тогда, когда он не был “бесогоном”. Ярче других это проявилось в фильме “Очи черные”, который я смотрел на Нью-Йоркском кинофестивале. Зал в Линкольн-центре был набит журналистами, пришедшими поглазеть на знатного иностранца, который помог Михалкову обновить “Даму с собачкой”. Его звали Марчелло Мастроянни, и дамы таяли уже от имени. Актер расположился на сцене вальяжно: был небрит и выпивши.
– Почему вы всегда играете слабых мужчин? – спросила долговязая дама без косметики.
– А вам нравится сильные?
– Мне нравитесь вы, – твердо ответила она, но зарделась.
– Как вам работалось с Михалковым? – спросил я, прерывая объяснение.
– Замечательно! Мы придумали новый фильм со мной в главной роли, называется “Обломов”. Коронная сцена: Сибирь, в засыпанной снегом хижине сидит Обломов. Раздается громовой стук. Дверь распахивается, и входит Сахаров.
Примерно этого мы и ждем от иностранца, поэтому я тоже ему захлопал.
2. Гость
Иностранцы редко любили Россию так азартно, как Россия – иностранцев. Тем приятнее соотечественникам было читать путевые заметки мадам де Сталь, которая бежала от Наполеона в Англию через Москву. Самая известная в Европе писательница и личный враг Бонапарта, она хвалила все увиденное, находя в царе союзника и последнюю надежду на спасение: “Вот до чего довел меня африканский тиран: я ждала поражения французов!”
Все остальное – редкие заметки на полях путешествия. В них мало живых подробностей, много сентенций в духе просветительских обобщений и несколько брошенных вскользь наблюдений, устанавливающих определенный стандарт в отношении иностранцев к увиденному.
Не вдаваясь в подробности, баронесса о простых русских пишет так: “гостеприимны, но вороваты”. А про знатных так: они готовы скорее “раздарить состояние, нежели расплатиться с кредиторами”.
Потрясенная однообразной страной болот и берез, де Сталь, что тоже стало традиционным, поженила географию с метафизикой: здесь “простор съедает все, кроме самого простора”. Редкое население, встреченное по пути в стране, будто “только что покинутой жителями”, она описывает в духе Руссо “благородными дикарями”. Хвалит за “пристрастие к ярким цветам” и огорчается, что судьба осудила их жить на земле, где “виноградников нигде нет”.
Назначая русских варварами, она, вслед за другими симпатизирующими России европейцами, видит в этом “животворную молодость нации”, которая только приступила к просвещению. Признав, как все на Западе, русских рабами, она заключает, что это не мешает, а помогает им любить и защищать свое отечество. Этот экстравагантный тезис стал общим местом и нашел себе выражение в других заметках иностранцев той эпохи: “Рабство в том виде, как оно существует в данный момент в России, спасло на этот раз государство” (Г.Т. Фабер в письме де Сталь).
Оставив “рабов” там, где они их нашли, иностранцы не лучше обходятся с их хозяевами. Де Сталь даже не