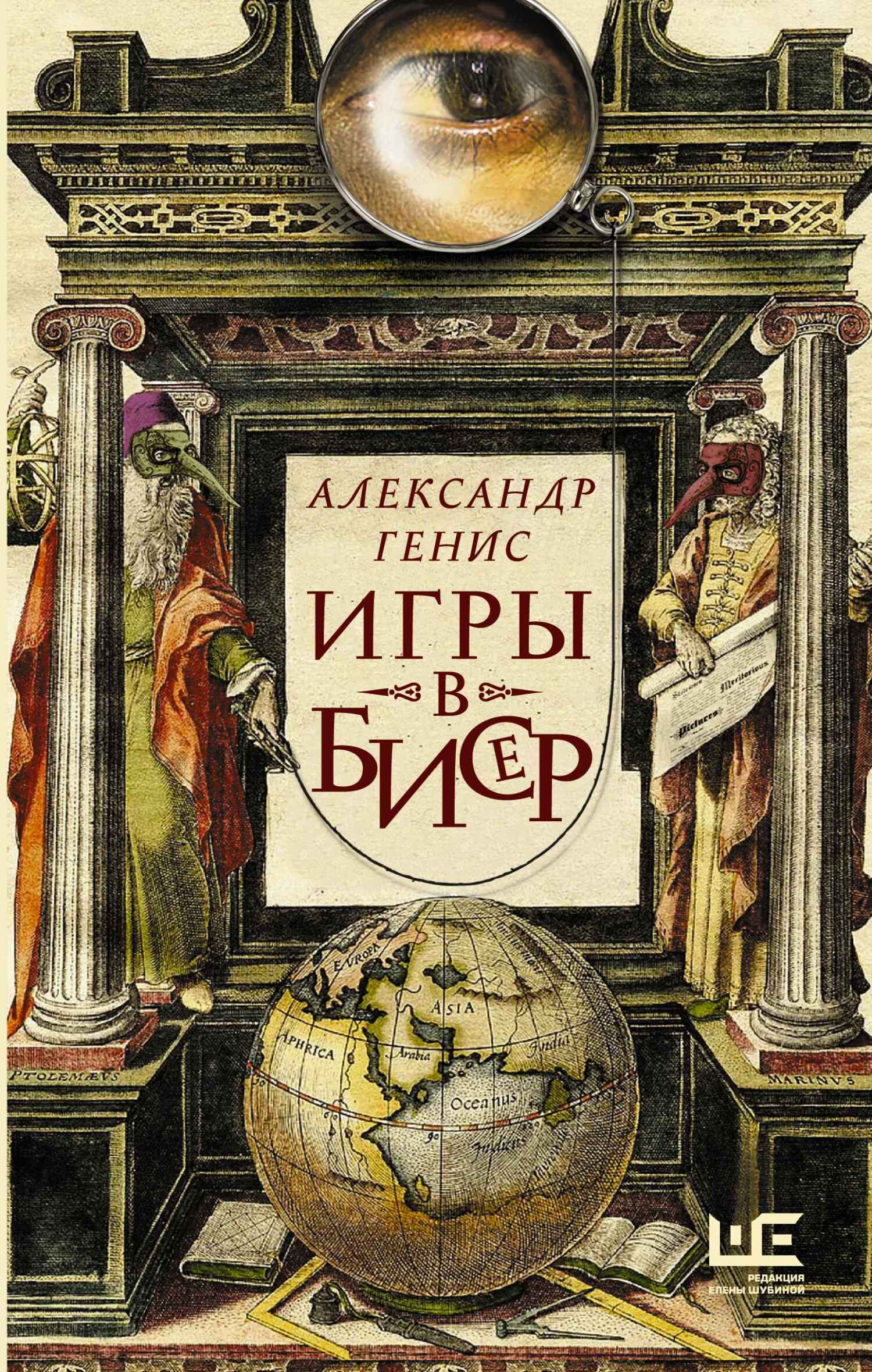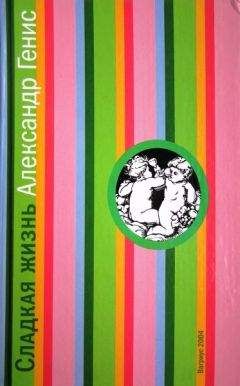“чего- то великого, а может быть, и прекрасного”, ибо он дает лишь то, что может. Но не стоит доверять его показной скромности. Несмотря на мелкую натуру потертого и пошлого обывателя, цитирующего тогда-шний научпоп, черт и есть та фундаментальная основа мира, без которой
“тотчас бы все угасло на свете и не стало бы случаться никаких происшествий”.
Получается, что без черта вечная “осанна” “взвизгивающих” (за это слово Достоевский особо держался) серафимов тоже своего рода “банька с пауками”, вечность, в которой ничего не меняется, а значит, не растет.
Черт внушает сомнение не в Боге, не в Добре, не в рае, а в том, что все это нужно больше, чем сам черт с его здравым смыслом. Признавая разум, черт не отрицает Добро, а дополняет его Злом, которое он не творит, а – что еще хуже – оправдывает.
Франц Кафка, самый внимательный читатель Достоевского, сказал о черте фразу, проницательную до дрожи: “Одним из его самых эффективных средств соблазнения является вызов на бой. Это как борьба с женщинами, которая заканчивается в постели”.
7. Недуг
Черт, как уверял Гоголь, немец, но обрусевший, о чем свидетельствует его разговор с Иваном Карамазовым. На первый взгляд именно таким он явился и Адриану Леверкюну.
Это все тот же бесспорно мелкий, но еще более обтрепанный бес: “Мужчина довольно хлипкий, <…> на ухо нахлобучена кепка, с другой стороны из-под нее выбиваются у виска рыжеватые волосы, <…> клетчатая куртка со слишком короткими рукавами, отвратительные штаны в обтяжку и желтые стоптанные башмаки…” Примерно так выглядел актер Леонид Куравлев в роли Шуры Балаганова.
Хотя Томас Манн, несомненно, оглядывался на Достоевского, его черт говорит на родном языке, признаваясь: “Иногда я только по-немецки и понимаю”. К тому же в процессе длинной беседы он трижды меняет облик, потому что у настоящего дьявола, того, что Данте вморозил в озеро Коцит, три лица, пародирующие троицу.
Черт из “Доктора Фаустуса” претерпевает внешнюю эволюцию в зависимости от темы беседы. Сперва он – “проститутка в штанах” — опускается до уровня человека и мимикрирует под него. В разгар интеллектуального диалога дьявол принимает обличие “интеллигентика в очках, пописывающего в газетах средней руки об искусстве, о музыке”. И наконец, когда дело доходит до торговли, черт выглядит адвокатом с усиками, “раздвоенной бородкой” и “маленькими острыми зубами”. Только завершив сделку, дьявол с облегчением возвращает себе первоначальный глумливый образ, словно показывая свое истинное, а на самом деле заимствованное у того же Достоевского лицо.
Этот черт тоже не может сказать ничего про Бога, который находится по другую сторону познания, в трансцендентном пространстве, откуда дьявол и свалился к нам, на землю, чтобы жить и пакостить в меру наших и своих сил.
Но если Ивану черт служит в качестве его же подсознания, то Леверкюну он прислан болезнью. “Предосудительная, деликатная, тайная” (попросту говоря, сифилис), она “заставляет человека искать защиты в духовной области – в книгах, в идеях”.
Старая, любимая, опробованная на себе мысль Манна, который и мою любимую “Лотту в Веймаре” написал, страдая от жутких болей, назначает недуг источником творчества и расплатой за него. В рамках этого диагноза явление черта – квинтэссенция болезни, которая, как сам черт и говорит Адриану, “позволяет тебе меня воспринимать”.
Психоз одалживает алиби сверхъестественному, но не отменяет и не девальвирует центрального эпизода романа – и всей немецкой трагедии.
8. Торги
От Ивана черт, в принципе, ничего и не хотел. Ему хватило того, что Иван признал неоспоримую материальность черта, а с ней реальность и необходимость Зла, которому, впрочем, Иван уже и так уступил свою душу, подбив Смердякова на убийство отца.
Зато в “Докторе Фаустусе” Манн использует старинную и привычную ситуацию обмена. Его черт торгует временем: двадцать четыре года творчества взамен вечных мучений в аду музыканта —“в глубоком, звуконепроницаемом, скрытом от Божьего слуха погребе – в вечности”.
Самое интересное в этой торговле то, как черт представляет свой товар. Эта сцена напоминает то- го же привидевшегося мне в “Карамазовых” Жюля Верна. У него капитан Немо объясняет своим пленникам, что они никогда больше не увидят друзей, близких и родины, в ответ на что ученый Пьер Аронакс спрашивает, какова глубина мирового океана, и получает отчет на сорока двух убористых страницах.
Леверкюн неизлечимо болен, сделка уже заключена, он знает, что ему, в отличие от Фауста, нет спасения, но черт с азартом и подробностями перечисляет все, что композитор получает от него и чем автор с жгучей завистью любуется.
Дар черта носит, с одной стороны, очень специфический, а с другой – универсальный характер. Выступая в роли критика, Манн становится не адвокатом дьявола, а им самим. Наше искусство, говорит он от имени обоих, выродилось в культуру, каждый опус – это “всего-навсего <…> решения технических головоломок”. И вместо этого убогого и бесплодного творчества черт соблазняет свою жертву немыслимой роскошью: “Ты прорвешь тенеты века с его «культом культуры» и дерзнешь приобщиться к варварству”, чтобы познать “древнее, первобытное вдохновение, вдохновение, пренебрегающее критикой, нудной рассудочностью, мертвящим контролем разума, священный экстаз”.
Результатом такого озарения могут быть “три- четыре такта”. “Все остальное – обработка, усидчивость”, но и они стоят вечных мук, ибо превращают творца в “богоизбранный инструмент” или, через запятую, – в “божественное чудовище”.
Соблазняя героя, автора и читателя, черт, будучи все-таки немцем, решает центральное противоречие германского духа. Это – спор между настоящей, то есть архаической, культурой и пошлой современной цивилизацией, между героизмом обреченности и убогим купеческим идеалом, между смертью и жизнью, между подвигом и счастьем. О последнем исторический прототип Адриана Леверкюна Фридрих Ницше высказался за всех нас с излишней категоричностью: никто не хочет быть счастливым, если, конечно, он не англичанин.
Дописав роман и наказав героя, Манн так и не сумел опровергнуть своего черта. Вместо этого он показал, что в немецкой трагедии нет, в чем его хотели убедить товарищи по изгнанию, хороших и плохих немцев. Плохие немцы были теми же хорошими немцами, только более последовательными.
9. Воланд
Говорят, что у Булгакова, когда он работал над “Мастером и Маргаритой”, лежали на столе две папки для выписок. На одной, распухшей от бумаг, стояло “Дьявол”, на другой, пустой, – “Бог”.
Неудивительно, что наш любимый черт стал национальным героем, несмотря на то, а возможно, как раз потому, что многие разглядели в нем Сталина.
“Я – часть той силы, – восторженно цитировали мы Гёте, имея в виду Булгакова, – что вечно хочет зла и вечно совершает благо”, не заметив, что Воланд в романе не делает ни того, ни