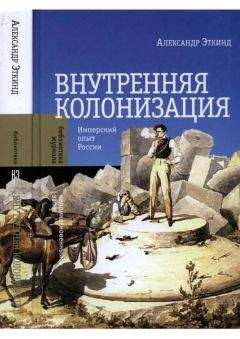Как видим, мысль Шекспира воспроизведена с достаточной отчетливостью, да и смена образов, их развитие близки к оригиналу. Но губительно для Шекспира то, что традиционность эпохи Возрождения уступила здесь место самой скверной традиционности русского поэтического безвременья: "...пел так сладко соловей", "свет прощальный... погаснувшего дня", "полночи печальной", "угрюмой смерти", "и крепче жмешь мне руку".
У Маршака:
То время года видишь ты во мне,
Когда один-другой багряный лист
От холода трепещет в вышине
На хорах, где умолк веселый свист.
Во мне ты видишь тот вечерний час,
Когда поблек на западе закат
И купол неба, отнятый у нас,
Подобьем смерти - сумраком объят.
Во мне ты видишь блеск того огня,
Который гаснет в пепле прошлых дней,
И то, что жизнью было для меня,
Могилою становится моей.
Ты видишь все. Но близостью конца
Теснее наши связаны сердца!
Маршак игнорирует сочетание "the sweet birds" - "нежные, сладостные птицы": оно банально (у Ильина банальность усилена соловьем, который "пел так сладко"). Зато Маршак со всей бережностью сохраняет сложный, неожиданный образ, носящий черты индивидуального изобретения: "...the twilight... As after sunset fadeth in the west, Which by and by black night doth take away" - "тот вечерний час, Когда поблек на западе закат, И купол неба, отнятый у нас..." Насколько же у Ильина эти строки звучат обыкновенней, в традиции общестилистических привычностей: "...свет прощальный На западе погаснувшего дня..." Последний - перед заключительным двустишием - образ у Ильина вовсе не воспроизведен, Маршак стремится к возможно более близкой его передаче. Заметим также, что Маршак ищет и способов создать фонетическое подобие оригинала: он не останавливается перед сплошными мужскими рифмами (у Шекспира встречаются и чередования мужских с женскими - тогда и переводчик дает аналогичное чередование: ср. сонет 67), которые здесь кажутся ему поэтически выразительными. В целом в маршаковском переводе с большой силой звучит трагическая идея этого сонета о старости и приближающейся смерти: сознание близости конца усиливает связь между любящими. Заключительные строки с максимальной отчетливостью формулируют философскую и нравственную мысль сонета:
Ты видишь все. Но близостью конца
Теснее наши связаны сердца.
У Ильина нет ничего похожего на это трагическое обобщение; его концовка не выходит за пределы печально-достоверного, но все же бытового, единичного эпизода:
Во мне ты это видишь, и разлуку
Предчувствуешь, и крепче жмешь мне руку.
У Пастернака, перевод которого опубликован на несколько лет ранее маршаковского, 73-й сонет звучит так:
То время года видишь ты во мне,
Когда из листьев редко где какой,
Дрожа, желтеет в листьев голизне,
А птичий свист везде сменил покой.
Во мне ты видишь бледный край небес,
Где от заката памятка одна,
И, постепенно взявши перевес,
Их опечатывает темнота.
Во мне ты видишь то сгоранье пня,
Когда зола, что пламенем была,
Становится могилою огня,
А то, что грело, изошло дотла.
И, это видя, помни: нет цены
Свиданьям, дни которых сочтены {*}.
{* Перевод Б. Пастернака впервые опубликован в журнале "Новый мир", 1938, Э 8, стр. 49; см. также кн. "Избранные переводы". М., "Советский писатель", 1940.}
Маршак воспроизводит индивидуальную образность шекспировской лирики, тесня традиционное начало ("sweet birds") и все же сохраняя его для стилистического фона ("купол неба", "наши сердца"), но Пастернак идет гораздо дальше, - настолько, что 73-й сонет совсем удаляется от Шекспира и вплотную приближается к Пастернаку. Он переходит ту грань, за которой перестает быть переводом, ибо утрачивает даже и следы стилистической системы, заданной оригиналом. Так, в "памятку" Пастернак вкладывает особый смысл, несвойственный этому слову; оно Пастернаком не придумано - у Даля "памятка" объяснена как "урок, наука, пример; случай, который не скоро забудешь, который заставляет думать, помнить о себе или остерегаться" ("Толковый словарь", т. III, стр. 14), и в наше время Ушаков толкует его сходно, снабдив пометой "разг. устар.". У Пастернака "памятка" субъективный неологизм: он вкладывает в старое слово новое значение, понятное благодаря и звуковому составу этого слова и контексту, - нечто вроде "след", "воспоминание". Пастернак нередко так поступает в своей оригинальной поэзии, это характерный для него, Пастернака, смысловой сдвиг, очень ярко стилистически окрашенный - и далекий от шекспировской поэтики. Равно далекими от этой поэтики кажутся в той же фразе и сочетание "взявши перевес", и дерзкий образ, характерный для поэзии XX века: "их (небеса) опечатывает темнота" (при том, что это слово буквально соответствует английскому "seals up"!). Да и концовка, блестящая сама по себе своей назидательностью ("помни"), далека от философской идеи Шекспира.
Может показаться, что Маршак остановился где-то на полпути между Ильиным и Пастернаком. Такой вывод был бы ошибочным. Следует сказать иначе: 1) в отличие от Ильина, Маршак создал поэтическое произведение, в котором преобладает индивидуальная образность, оттеснившая бессодержательные общие места; 2) в отличие от Пастернака, Маршак ограничил эту индивидуальную образность законами, продиктованными ему оригиналом, то есть он остался в пределах перевода, он создал перевод, а не подражание, не вариацию на шекспировский сюжет.
Маршак Шекспира перестраивает, но не уходит от него на слишком далекое расстояние. Разумеется, эта перестройка мотивирована личной эстетикой поэта Маршака, творящего художественный портрет своего оригинала, а не занятого изготовлением безжизненных копий. О таком понимании искусства перевода писал сам С. Маршак: "Настоящий художественный перевод можно сравнить не с фотографией, а с портретом, сделанным рукой художника. Фотография может быть очень искусной, даже артистичной, но она не пережита ее автором" {С. Маршак. Портрет или копия? (Искусство перевода). В кн. "Воспитание словом". М., "Советский писатель", 1964, стр. 235. }. Портрет отличается как раз тем, что он, передавая существенные черты оригинала, непременно субъективен, - и такая субъективность (ограниченная, правда, научно-филологическим взглядом на оригинал) не порок, не слабость поэта-переводчика, а главная особенность художественного творчества.
Маршак приблизил к нашему времени сонеты Шекспира, он сделал их частью поэтической казны, которой владеют русские люди XX века. Прежде пьесы Шекспира, как бы слабо или неверно их ни переводили, пробивали себе путь на сцену, к умам и сердцам зрителей русских театров, - сила трагических характеров, мощь авторской мысли и живописность образов преодолевали заслон из приблизительных, а порой и фальшивых слов. Лирическая поэзия слишком тесно связана со звучанием слова, чтобы она могла отстоять себя вопреки дурным переводам. Сонетов Шекспира в русской литературе до Маршака не было, хотя их часто и много переводили.
4
Более столетия минуло с тех пор, как первые сонеты великого драматурга появились на русском языке - в переводе графа Ив. Мамуны (пять шекспировских стихотворений - с 1859 по 1876 год). Вслед за ними вышли в свет переводы Н. В. Гербеля (1880 - полное издание) и П. Кускова (1889 - 16 сонетов), а в 1914 году - почти полный свод сонетов Шекспира в переводе М. Чайковского. Однако еще до того, в шекспировском издании С. Венгерова, были опубликованы некоторые переводы В. Брюсова (Э 57, 58, 59, 60), Петра Быкова, Т. Щепкиной-Куперник, Ф. Червинского, Н. Холодковского, А. М. Федорова, Н. Брянского, В. Лихачева. Добавим к этому списку еще имена К. Случевского, которому принадлежат переводы 14-го и 31-го сонетов, К. Фофанова {Ср. Сонеты Шекспира в переводе Н. Гербеля. СПб., 1880; П, А. Кусков. "Наша жизнь". СПб., 1889; "Сонеты Шекспира", бесплатное приложение к журналу "Пробуждение". СПб., 1912; М. Чайковский. Сонеты Вильяма Шекспира. М., 1914; Полное собрание сочинений Шекспира, т. V. СПб., изд. Брокгауза и Ефрона, 1905. См. составленную И. М. Левидовой весьма полную библиографию "Шекспир на русском языке", в кн. "Вильям Шекспир, к четырехсотлетию со дня рождения". М., "Наука", 1964, стр. 415.}.
Все эти многочисленные переводчики не открыли лирического богатства и своеобразия Шекспира. Шекспира-поэта они в русскую поэзию не ввели. Возьмем сонет 60-й:
Like as the waves make towards the pebbled shore,
So do our minutes hasten to their end;
Each changing place with that which goes before,
In sequent toil all forwards do contend.
Nativity, once in the main of light,
Crawls to maturity, wherewith being crown'd,
Crooked eclipses 'gainst his glory fight,
And Time that gave doth now his gift confound.
Time doth transfix the flourish set on youth,
And delves the parallels in beauty's brow,
Feeds on the rarities of nature's truth,
And nothing stands but for his scythe to mow:
And yet to times in hope my verse shall stand,
Praising thy worth, despite hjs cruel hand.
Вот как перевел его Брюсов:
Как волны набегают на каменья,
И каждая там гибнет в свой черед,
Так к своему концу спешат мгновенья,
В стремленья неизменном - все вперед!
Родимся мы в огне лучей без тени