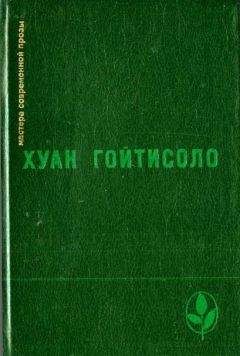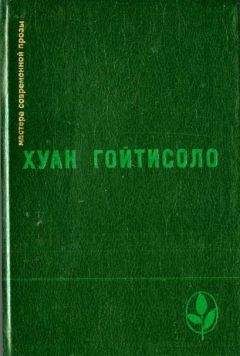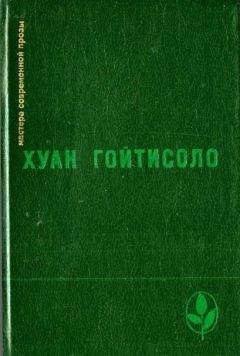Роман фиксирует состояние Альваро Мендиолы, когда он после десятилетнего отсутствия попадает в Испанию и видит, что за прошедшие годы она стала совсем другой. «Такая страна, как эта, не может быть моей», — фраза, вынесенная писателем X. Габриэль-и-Галаном в название поэтического сборника, как нельзя лучше отражает мироощущение героя Гойтисоло. Он не идентифицирует себя ни с Испанией, ни с родной Барселоной, поэтому с горьким удивлением спрашивает, наблюдая туристов на смотровой площадке дворца Монжуик: «на чей город они глазели? на твой?» Нет, он решительно отрекается от этого родства, от особых примет, выдающих его связь со страной, которая приняла «беззаконие, навязанное силой оружия», пустила на продажу, на потребу индустрии туризма все, даже память о пролитой крови. Об этом думает он на той же возвышающейся над городом горе Монжуик, но уже не у дворца, а у крепости, глядя на толпы иностранцев, разгуливающих там, где в былые времена расстреливали людей, у стены, на которой, кажется, еще и сегодня проступают пятна крови погибшего здесь президента каталонского правительства Луиса Компаниса. Но невозможность принять не означает бездействии, и, обращаясь к самому себе, Альваро говорит: «попытайся хотя бы запечатлеть свое время, не предавай забвению того, чему оно было свидетелем».
Ради этого и работает Хуан Гойтисоло. Ради этого в поисках нового художественного языка, который адекватно бы выразил изменившуюся испанскую действительность, ломает уже отработанную манеру письма: вместо линейной выстроенности сюжета — повествование, где прошлое перемешивается с настоящим; вместо бесстрастной фиксации фактов — множественность точек зрения, активное, заинтересованное участие во внутренних поисках героя, его бесконечных диалогах с самим собой; вместо спокойного тона — взволнованная эмоциональность; даже от привычной пунктуации отказывается порой писатель, стараясь передать сбивчивый, горячечный бег мыслей героя.
Но, перечитав вышедшую книгу, Гойтисоло останется недоволен: цель достигнута лишь наполовину — роман свидетельствовал о новом восприятии мира, ином подходе к задачам литературы, о кардинальном пересмотре арсенала выразительных средств, и все же в нем еще оставалось слишком много от привычных литературных канонов, он был «слишком сюжетен». И уже вызревает идея «Возмездия графа дона Хулиана», работа над которым начнется в следующем году.
В основе книги — легенда о завоевании маврами Испании в 711 году, возникшая вскоре после драматических событий, в результате которых Испания на протяжении почти восьми веков оставалась под арабским владычеством. В июле 711 года арабское войско под командованием Тарика разгромило при реке Гвадалете (нынешняя провинция Кадис) армию последнего вестготского короля Родриго, открыв путь на север. Конечно, арабское владычество было порождено рядом объективных исторических причин: бесконечные распри между крупными феодалами, бедственное положение крестьянства, голод, эпидемии — страна не могла оказать достойного сопротивления, и в ряде мест мусульманские войска встречались как избавители. Наука располагает весьма скудными и противоречивыми сведениями о подробностях вторжения арабов на полуостров, зато их с избытком дает почти подменившая историческую истину легенда. Согласно ей, быстрой победе содействовал некто Ильян, испанский наместник Сеуты, дочь которого Кава была обесчещена королем Родриго. Первые упоминания об этом встречаются в арабских хрониках, откуда они перешли в христианские, где Ильин и превратился в графа Хулиана. Легенда об этих, в первооснове своей исторических, событиях вдохновляла создателей романсов, драматургов, особенно из числа романтиков; интересовала она и литераторов других стран; Вальтера Скотта, Роберта Саути, Вашингтона Ирвинга, Виктора Гюго и других.
Легенда эта и становится сюжетной первоосновой романа Гойтисоло, рамкой, в которую помещается не привычное для романной формы действие, а поток заменяющих это действие мыслей и чувств, сфокусированный на главном — отношении к Испании, которую герой-рассказчик, образ собирательный, лишенный даже имени, наблюдает со смотровой площадки Танжера. Слово «Испания» употребляется редко, даже само название страны герой хотел бы забыть, это для него просто «вражий берег», и вся книга — сгусток ненависти к стране, лежащей там, за проливом, за Гибралтаром. На этом чувстве сконцентрирован герой, ему подчиняет он все свои поступки, кажущиеся иногда бессмысленными с точки зрения логики.«…Его протест — нечто среднее между критикой с позиций разума и инстинктивным неприятием, своего рода попытка психоанализа»,[8] — пояснял Гойтисоло.
Итак, главная мишень — то примитивно-опошленное содержание, которым франкизм пытался наполнить понятие «родина». Это атака не на патриотизм, а на оголтелый национализм идеологической программы фашизма. «„Мать Испания“ — такова заученная нами формула из школьных учебников, — пишет Амандо де Мигель, известный социолог, сверстник Гойтисоло. — В одном из школьных пособий было напечатано следующее вступление к тексту, набранное в форме стихотворения, хотя оно ничего общего с поэзией не имело:
Каждый сын любит свою мать,
Каждый человек любит свою родину,
А я — испанец, и потому люблю свою,
И люблю ее больше, чем кто-либо другой
Любит свою родину,
Потому что Испания — лучшая из Матерей,
Потому что Испания — лучшая из всех Родин,
Потому что у Испании такая История,
Какой нет ни у одной другой страны.
История Испании —
Единственная в мире».[9]
Не родину так страстно ненавидит герой «Дона Хулиана», для которого, как и для любимого поэта Гойтисоло Луиса Сернуды, образ ее ассоциируется прежде всего со словом «мачеха», а этот набор идеологических штампов, официально признанные, «узаконенные» франкизмом ценности, сам институт ценностей, ставших национальными мифами. В первую очередь это мифы, питавшие франкистскую идеологию: миф о национальной исключительности, особой духовности испанской нации, о мессианской роли по отношению к другим странам Западной Европы, об аскетизме и стоицизме как неотъемлемых чертах национального характера, некой мистической неизменности этого характера.
Эти псевдо философские, пропагандистские клише Гойтисоло знает не понаслышке: ему, как и тысячам его сверстников в 40-е годы, они внушались ежедневно — порой примитивной долбежкой на уроках по формированию национального духа (был такой обязательный предмет в те годы), порой более «утонченным» способом — через фильмы, радиопередачи, популярные песенки. Сороковые годы — особая эпоха даже внутри франкистского периода, это годы голода, карточной системы, кровавого террора, страха, безмолвия; годы, когда рядовой испанец был в первую очередь озабочен тем, чтобы просто выжить. И с ловкостью бойких мошенников, спекулировавших на «черном рынке» хлебом, маслом, лекарствами и предметами первой необходимости, официальная пропаганда спекулировала на чувстве национального достоинства и, выворачивая его наизнанку, объясняла испанцам, что, довольствуясь малым, они сохраняют свои возвышенные принципы, благодаря которым Испания выполнит возложенную на нее историческую миссию духовного спасения Европы. И простому, далекому от политики, уставшему от кровопролития и послевоенной разрухи испанцу так хотелось поверить в «избранность» Испании и гордо противопоставить этот миф резолюции Генеральной Ассамблеи от 1946 года, согласно которой страны — члены ООН разрывали дипломатические отношения с франкистской Испанией. И многие верили; верили — и становились «винтиками», тем социальным фундаментом, на котором почти сорок лет держался режим. Вот как вспоминает те годы один из самых острых журналистов современной Испании — Мануэль Васкес Монтальбан: «Сороковые годы были особенными. В эти годы рядовой испанец был готов считать себя наполовину Зигфридом, наполовину Мигелем Лихеро (популярный киноактер, — Н. М.) и был почти готов придать трансцендентальное значение своей персоне, считая ее явлением такого же порядка, как существование арийской расы или падение апостола Павла на пути не помню куда».[10] Другой испанец этого поколения, социолог Амандо де Мигель, свидетельствует: «Официальная пропаганда насаждала стереотипный образ „среднего испанца“ — этакого восторженного и мистического идиота-идеалиста, прирожденного „носителя вечных ценностей“ и представителя „духовного резерва Запада“, которого божественное провидение якобы избрало для выполнения особой миссии. Впрочем, конкретные примеры навязывания такого стереотипа, при помощи которого людям внушают ощущение элитарности всех испанцев, наличия будто бы у них ниспосланной небесами особой духовности, можно обнаружить не только в прошлом. Они встречаются и в настоящее время».[11]